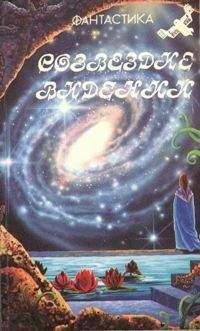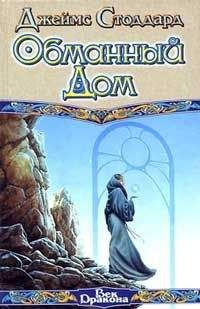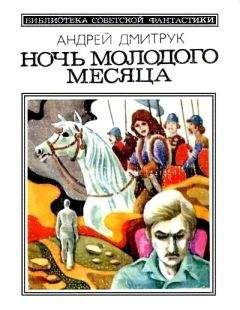Ознакомительная версия.
Тем временем внизу, предшествующий холопами, провожаемый бело-зеленой стражею, вступил в свое жилище пан Щенсный. Видать, бражничал где-то у соседей, да перед рассветом и заявился внезапно…
Казак затравленно озирался. Окно большой душноватой горницы, куда попал он, поверх обычных стеклянных кругляшей в медной решетке было забрано еще и стальною сетью, и плотными шторами. Что здесь хранилось, не панская ли казна?..
Лари скованные, в полосах зеленых и красных; просторная кровать под коврами и мехами; поставцы с затейливыми подсвечниками, шкатулками… Среди комнаты утвержден почернелый столище, испещренный язвами от углей из трубки, каплями воска и следами бессчетных бокалов.
Зашаркало множество подошв… Поняв, что деваться некуда, шмыгнул Еврась за сундук, уставленный напоказ чеканною посудою, и, притаясь, глянул меж тонкогорлых кувшинов.
Расторопные челядинцы внесли новые свечи, за холопами вошел сам хозяин. Впервые видел Чернец так близко властителя поместья, лесов и сел на обоих берегах! И вправду, знаменитый объедала вовсе не был толст — скорее, коротким поджарым телом и острым личиком с кисточками усов напоминал хоря. Заурядный человечек, — цепляли внимание лишь румянец. воспаленный на скулах да потерянные, уныло-беспокойные глаза…
Нетерпеливо уселся Казнмеж в кресло, расстегнул крючки жупана. Откуда мог знать Еврась, что ужин Немчика из Пепельной лишь раздразнил утробу Щенсного?..
Теперь смотрел, почти не дыша, ошеломленный казак, как вносят и ставят перед шляхтичем хлебы и кувшины, миски ухи раковой и вареников; блюда с мясом, груды жареных перепелов, пироги с тележное колесо…
Загромоздив стол дымящимися, пахучими яствами (бедняга Еврась лишь слюну глотал), слуги с поклонами выпятились прочь; Казимеж, резво вскочив, на три замка запер за ними двери.
«В крайнем случае придушу», — решил казак, готовясь выбраться из укрытия. Но застыл, потрясенный как никогда в жизни, ибо Щенсный начал есть.
Если б наблюдали это Настя или кто из мужиков, слухи о пане-обжоре распускавших, — не усомнились бы, что в злосчастном Каземиже поселился весь ад. Сначала просто насыщался пан, с жадностью опустошая блюда, костедробильно жуя, наворачивая за обе щеки сразу полдюжины закусок, запивая дикою смесью вин и настоек, сливаемых в огромном кубке. Но затем…
Даже после всего пережитого в этом чертовом гнезде показалось казаку, что он болен трясовицею и жестоко бредит… Лицо Щенсного мгновенно и ужасно преобразилось: впали ямами щеки, череп смялся, вытянулся пятнистою дынею, брызнули из-за ушей струи седых волос — сидел за столом, пеньками зубов терзая крыло фазана, лысый, изможденный старец. Но вот — дух не успел перевести Еврась — стариковская голова, точно глина под невидимой рукою, сплющилась, раздалась в челюстях… Зверовидный короткошеий мужлан с низким лбом смачно уминал блины в сметане… кой черт — едоков уже было двое!!! Прогнувшись по темному шву, разделился череп. Две пары глаз устремились в тарелку, два зубастых рта громко зачавкали; руки едва успевали затыкать их пищею…
Переливы внешности пана были стремительны: то мужские, то женские головы являлись, перетекая одна в другую, на его узких плечах. Молодые и дряхлые, иные в шрамах, слепые, покрытые коростой; по две; по три разом на одной шее, будто грибы-поганки на пне; и все так и жрали, перемалывали еду не останавливаясь, словно тело оставалось ненасытно голодным.
Таясь за ларем, Еврась вытерпел долгую череду превращений, даже попривык Немного и гадал, когда сминалась новая гроздь личин — что теперь вспузырится?.. Много ли, мало ли времени прошло — стол очищен был от снеди, вина высосаны досуха, мослы точно в пасти у весеннего медведя побывали. Последняя двоица голов передралась между собою за последний же кусок дичины. Изрыгая брань, едоки норовили куснуть друг друга, плевались, а рука с вилкою нервно тыкалась попеременно в оба рта…
Наконец, кончилось и это испытание. Живые маски скукожились, слились воедино подобно каплям ртути и снова предстало украшенное старым шрамом, хорье, с блудящими глазами личико пана Казимежа. Словно от сна пробудясь, тревожно обозрел шляхтич поле объедков: «Да неужто я такое натворил?.» Вздохнув, поднялся и пошел отпирать. Один замок, второй, третий…
Нелегко далось Еврасю прикосновение к оборотню, да куда денешься! Махнув через сундук, бросился казак к дверям, отшвырнул пискнувшего пана.
Он бежал, словно в гнетущем сне, когда по сто пудов весят ноги, и пересыхает гортань, и силы утекают с каждым шагом — а темный преследователь настигает, его дыхание на затылке. Оканчивался лес, и сквозила меж порослью ртутная рассветная гладь. Ум подсказывал: не спрячет сейчас и родной Днепр, над миром речным тоже властна бесовня: пока не взошло солнце. И все же ноги сами несли к воде.
Порою за время этого бега — время, первою сединою подернувшее виски Еврася, — мерещилось ему, что тысячи врагов несутся позади, смыкая концы подковы, перекликаясь волчьим подвыванием: а то лишь одинокий топоток близился, но такая лютость опаляла спину… Оглядываться было нельзя, это казак знал непреложно.
О Боже! В чем это он вязнет? Клейкая паутина меж стволами, толщиною в рыбачью сеть, — каков же должен быть паук?! Бессмысленно рваться, барахтаться: все новые нити опутывают, противно обжигая ногу… Сверху меж крон, из колодца бледного неба, спускается изменчивая тень… Хозяин паутины? Без опоры вниз головою парит над Еврасем женщина, волосы размётаны, лица не видно… Не успел разобрать Чернец, враг ли, друг перед ним, — с силою слесарных тисков схватили его за руку нежные пальцы, потянули прочь из западни… Лопались липкие тяжи. Наконец, разжалась мертвая хватка; на моховую, грибами пахнувшую подстилку упал казак. Ощутив себя свободным, снова помчался к Днепру; ныл на ладони вдавленный след от граненого камня в ее перстне…
Прямо по гнилостному мелкому заливу бежал Еврась, когда его схватили за ворот. Суматошным рывком освободившись, разорвав рубаху, не удержался Чернец на ногах, пал ничком в зловонную лужу… Голыми, без кожи, костяными пальцами пытались ему завернуть голову — но знал Еврась, что тогда насильно распялят ему веки и, заглянув в глаза, убьют Душу, и не давался, решив лучше умереть, захлебнувшись илом и тиною…
…Гей, ви мені не пани,
А я вам не хлопець, —
Догадайтесь, вражі сини,
Що я запорожець!
Что это?! С шипеньем досады его отпустили; он может подняться и глянуть вокруг себя. Мурлыча песню, едет всадник вдоль кустов лозы: кобеняк на нем долог, люлька попыхивает под краем накинутого капюшона. За ним еще верховые — шагом, шагом, по колено, по брюхо в раннем речном тумане плывут кони, качаются на них молодцеватые всадники.
Ознакомительная версия.