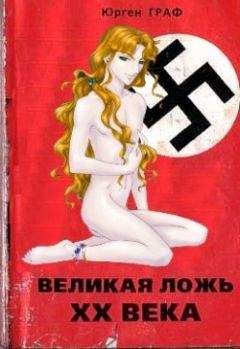class="p1">Единственным проявлением удивления со стороны Пайка было очередное неспешное движение брови. Глокта искренне восхищался его хладнокровием.
Сам Великий Эуз мог бы сейчас ворваться в двери, а этот и не подумал бы обернуться.
— Я хочу, чтобы ты придал им форму, — сказал Глокта, — и структуру, и цель. Я хочу, чтобы ты сделал их действенными. Больше того — дал им имя. Не бывает хорошего движения без громкого имени. Я подумывал о... ломателях.
— Звучит неплохо. И скажите — это способ держать мелких врагов поближе? Или способ... — тут он едва заметно понизил голос, — выступить против нашего главного врага?
— Для начала первое, — по спине Глокты пробежал невольный озноб. Он и сам не удержался и заговорил почти шёпотом. Даже я. — А потом... со временем... когда все предосторожности будут соблюдены... возможно, и второе.
— Я часто думал, как было бы славно... — Пайк осушил свой бокал и аккуратно поставил его на стол с тихим щелчком. — Оставить мир в лучшем состоянии, чем мы его нашли.
— Если мы действительно хотим что-то изменить... это должна быть Великая Перемена. Если мы хотим создать лучшее будущее, нужно вырвать прошлое с корнем. Мы должны вырвать его с корнем. Банки, бюрократию, корону. Переделать всё заново.
Пайк медленно кивнул: — Нельзя возвести прочную башню на гнилом фундаменте. Вы посвятите в это короля?
Глокта грустно усмехнулся: — У Его Величества сердце на месте, но боюсь, кишка у него тонка для такого дела. Не пойдёт он против своего хозяина. Не сможет решиться на необходимые жертвы. А жертв... будет немало. — Мы должны быть столь же терпеливы, решительны и безжалостны, как наш враг.
Пайк посмотрел на него в упор: — В этих качествах вам никогда не было отказа, ваше преосвященство.
— Как и тебе, друг мой, — Глокта допил свой бокал и хмуро уставился в окно, туда, где в маленьком саду только начинали набухать почки. — Иногда, чтобы изменить мир... его нужно сначала спалить дотла.
***
Вальбек, осень 593 года
Её знатно отделали.
Лицо всё в синяках, один глаз почти заплыл, рыжие спутанные волосы местами почернели от запёкшейся крови, а из разбитого носа на верхнюю губу стекали две аккуратные красные дорожки. Впрочем, Пайку доводилось видеть и похуже. По слухам, именно она убила того практика, чьё тело нашли в канализации, так что он считал, что с ней обошлись даже на удивление мягко.
— Итак, — сказал он, усаживаясь в кресло напротив. — Как вас зовут?..
Она подалась вперёд, насколько позволяли цепи, свернула язык трубочкой и харкнула кровавой слюной через стол.
Пайк вскинул брови: — Какое прелестное имя.
С его-то лицом — вернее, с тем, что от него осталось — его теперь едва ли считали за человека. Он всегда стоял особняком. Объект страха, презрения или жалости. Эта отстранённость давала ясность. Отстранённость — и всё то, что ему довелось повидать. На войнах, в лагерях и во время мятежа в Старикланде. Человечество в худших своих проявлениях. Человечество, в котором человеческого почти не осталось.
Люди мнят себя особенными, каждый считает себя удивительно непохожим на других. Но стоит как следует надавить — и они становятся до ужаса предсказуемы. Их мелочные потребности, мелочные желания, мелочная жадность, мелочная любовь. Мало кто по-настоящему тревожил его теперь. По-настоящему... вызывал интерес.
После такой взбучки арестанты обычно становились сговорчивыми, хотя случалось и обратное — они принимались беситься, плеваться и бушевать. Так что ярость на её избитом и опухшем лице не была чем-то необычным, плевки и неповиновение были вполне ожидаемы в начале допроса. Но когда Пайк заглянул ей в глаза, он увидел там нечто. Или... может быть, заметил отсутствие чего-то.
Совести? Страха? Жалости? Он, кажется, узнал эту пустоту. По тем редким моментам, когда решался взглянуть в зеркало.
Он положил локти на стол и сцепил пальцы: — Я наставник Пайк.
— А по мне — ты как пережаренный окорок, — прорычала она.
Пайк хмыкнул. Он медленно повернулся к инквизитору Ризинау, нервно переминавшемуся в углу комнаты:
— Что ж, не поспоришь, — пробормотал он, прежде чем вновь обратиться к заключённой. — Как не поспорите и вы... — Он бросил взгляд на забрызганные кровью бумаги перед собой. — Убийство владельца мануфактуры...
— Перерезала глотку сзади, — бросила она.
— И его сына...
— Размозжила череп формовочным молотком, — отрезала она.
— Не говоря уже о поджоге, который уничтожил не только это здание, но и два соседних.
— Видел бы ты, как горел этот ублюдок, — процедила она.
— Затем вас подозревают в убийстве практика Стоуна при попытке ареста...
— Я припрятала иглу в рукаве. Когда он полез с кандалами, я воткнула её ему в глаз. А когда рухнул — добила киркой, — Пайку показалось, что он услышал, как Ризинау брезгливо пискнул. — И это не всё. Ещё много чего найдётся.
— Немало кровавой работёнки для женщины вашего сложения.
— О, работы я отродясь не боялась, — она оскалила розовые от крови зубы. — И ни о чём не жалею. Они заслужили, все до единого.
— Какой честный человек мог бы не согласиться? — сказал Пайк, откидываясь на спинку. — Кровопийцы. Спекулянты. Личинки, разжиревшие на ещё живых трупах рабочего люда. Что вы, в сущности, сделали, кроме как добились справедливости? Когда продажное государство, продажные суды и продажная система отказали вам в ней, вы взяли её своими руками. Я понимаю это. Я даже, верите или нет... одобряю.
Ярость исчезла с её лица. Теперь она хмуро смотрела на него, источая недоверие, её разбитые губы скривились от презрения. Как осторожный клиент, которому предлагают сделку, в которую он отказывается верить.
— Что ты можешь знать о справедливости?
— Да вы только гляньте на меня! — он вскинул руки. — Я ж и впрямь как пережаренный окорок.
О, та невыносимая боль, потом ужас, потом горечь, когда он получил эти ожоги. Но со временем он начал считать их даром. То была боль перерождения. Чтобы изменить что-то, нужно сначала это спалить дотла, и тот хнычущий ничтожный человечек, которым он был когда-то, сгорел, чтобы он мог построить себя заново — стать тем, кем стал теперь. За эти годы он превратил своё изуродованное лицо в щит,