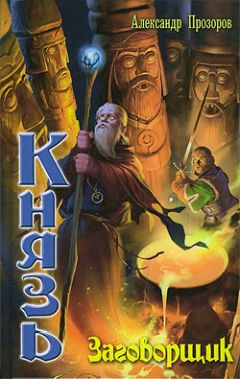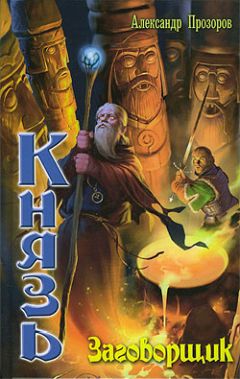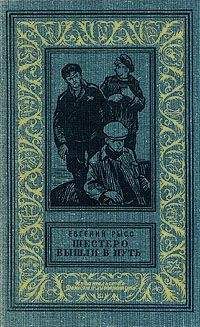— А разве Иван Михайлович не в опале? — шепотом поинтересовался Зверев. — Я слышал, сразу после взятия Казани он с Иоанном чуть не подрался и ересь какую-то на соборе вещал.
— Слышал ты звон, княже, — хмыкнул Тимофей Кокорев, пробираясь вдоль стены в задние ряды, — да не слышал, где он. Не с государем он подрался, а с митрополитом, и не за ересь, а сам митрополита в ереси обвиняя. Тот, слышь, дозволил на иконах бесов в облике людском изображать. За ту вольность его Висковатый срамными словами и хулил. Митрополит же в отместку собор тамошний заставил от церкви его отлучить.
— Да ты что? — не поверил своим ушам Друцкий. — Отлучен и не в опале?
— Государь милостив, — как-то бесчувственно, словно заученно ответил опричник. — Решил, что одной кары боярину хватит и в приказе[7] его на месте оставил.
— Куда ты нас тащишь?!
— Заметны вы больно, Андрей Васильевич. Как бы не осерчал государь, что незваные к нему в обитель заявились.
— Ку-уда?
В этот миг распахнулась низкая дощатая дверь, что находилась позади Висковатого. Тот попятился, стукнул посохом и склонился в низком поклоне перед высоким широкоплечим чернецом с узкой бородкой клинышком. Отрок согнулся так резко, что задел головой дьяка, заставив того пошатнуться, прочие же монахи лишь слегка склонили головы и попятились, образуя широкий полукруг перед простым, без изысков, деревянным креслом с низкой — голову не откинуть — спинкой. Следом за чернецом вошли несколько иноков постарше, с посохами, отступили к дверям, стенам, встали перед прочей толпой. Еще двое монахов Андрею оказались знакомы: набычившийся, с рыхлым носом духовник Сильвестр и тощий, с иссиня-черными, словно подведенными, бровями личный писец царя Алексей Адашев. Только после их появления Зверев и догадался, что же за парень уселся в кресло: государь Иоанн IV Васильевич собственной персоной.
— Возмужал, — оглянулся на князя Друцкого Андрей. — Надо же, как изменился. А ведь всего четыре года не виделись.
— Вот, держи, — сунул ему в ответ бумажный свиток Юрий Семенович и торопливо перекрестил: — С Богом!
— Сказывай, Иван Михайлович, что у тебя?
— Уложение с Литвой ныне согласовано, послы тамошние на шесть лет перемирия срок просят поставить…
Дьяк пальцем подманил отрока. Тот поспешно вытянул перед собой шкатулку. Висковатый откинул крышку, достал грамоту, протянул царю. Иоанн пергамент принял, развернул, пробежал глазами, свернул и отдал обратно:
— Коли так, пусть боярина достойного присылают, доверительным письмом сопроводив.
— Ногайский хан Измаил челом тебе бьет и просит прислать ему для нужд двух соколов охотничьих и сто тысяч гвоздей железных, клянясь в обмен ни одного врага в земли русские через степи свои не пропускать, а буде кто от тебя к нему побежит, так ловить и назад возвертать без напоминания. А коли пожелаешь, так и казнить того на месте, — извлек очередную грамоту дьяк.
— Хан Измаил много лет другом верным для царства нашего остается, — развернув грамоту, произнес Иоанн. — Вели отослать ему все, что надобно.
— Князь Темрюк, правитель черкесский, челом тебе бьет, государь, и просит дать ему землю в Москве, дабы дом иметь недалече от твоей милости.
— Купить достойный дом за счет казны и подарить князю, — мельком глянув на письмо, приговорил Иоанн.
Андрей Зверев никак не мог отделаться от ощущения, что попал в дешевый театр. Все роли распределены заранее, вопросы решены. Дьяк и царь всего лишь имитируют их прилюдное разрешение.
Хотя… Может, в этом и цель? Ведь любые указы, законы и распоряжения вступают в силу после их публикации. Газет и телевидения у Иоанна пока что нет. Вот и обнародует, как умеет. О мелких делах на площадях через глашатаев сообщать не станешь. О том, что ногайцы пошли к русским в союзники, а черкесы и прямо приняли подданство, соседям тоже не отпишешь, за угрозу примут. А вот так, пока послы иноземные за дверью томятся, получается скромно, но прилюдно: кому нужно — услышит, кто захочет — узнает.
Дьяк Посольского приказа наконец перестал жонглировать грамотами, закрыл шкатулку и склонил перед Иоанном голову:
— Посланец магистра Ливонского ордена Вильгельма Фюрстенберга комтур Вильянди Готард Кетлер тебе ныне челом бьет и принять просит для обмена грамотами о перемирии на десять лет.
— Проси кавалера Кетлера, — величаво кивнул сидящий в кресле скромный инок.
Боярин Висковатый сделал разрешающий знак, откуда-то из рукава незаметно достал украшенный сургучными печатями свиток. Монахи, что с посохами, распахнули створки дверей в переднюю, впуская поджарого, гладко бритого иноземца, голова которого утопала в пышном жабо. Коротко стриженный, в куцем суконном плаще, в пухлых на ляжках штанах, ниже колена превращающихся в матерчатые чулочки, выглядел он неожиданно солидно. В первый миг Андрей не понял, почему, но вскоре сообразил: иноземец оказался единственным, у кого на пальцах поблескивали массивные золотые перстни, из-под жабо у него свисало колье с самоцветами, в ухе торчала сережка, словно у персидского раба. Даже два сопровождавших посла угрюмых бюргера в длинных коричневых балахонах и черных суконных шапках не позволили себе никаких украшений, не говоря уж о монастырской братии. А тут — такой красавчик!
Комтур приложил к груди шляпу с длинным петушиным пером, поклонился, помахал ею и выпрямился, вернув на макушку:
— Мой брат и командир прислал меня к тебе, великий царь Иоанн Васильевич, дабы вручить подписанную им грамоту о перемирии на десять лет по приговору прежнего уложения. От тебя он ждет взамен таковую же грамоту, подписанную тобой, великий царь.
У Андрея остро засосало под ложечкой. Выбор… Выбор нужно было сделать сейчас. Промолчать — и не будет проклятого хутора, кустов и залпа в упор. Будет прежняя спокойная, размеренная жизнь, Полина, дети, уют. Привычные хлопоты, уютный дом. Но ценою русской Прибалтики: свободной и благополучной. Либо — Россия выйдет к морю. Вот только князь Андрей Сакульский, урожденный боярин Лисьин, окажется втоптан на этом пути в мать-сыру-землю.
— Жизнь или кошелек. Глупый выбор, — пробормотал Зверев и весело прокричал: — Не вели казнить, государь, вели слово молвить!
Вскинув грамоту над головой, он стал пробиваться через монашескую толпу вперед.
Дьяк, читавший ливонскую грамоту, приподнял голову, глянул на голос, стрельнул глазами на государя. Тот скривился:
— Знаю я этого смутьяна. Гость он у меня редкий, Иван Михайлович. Коли заявился, давай послушаем, о чем баять станет.
Висковатый кивнул и снова вернулся к документу, губами проговаривая каждое написанное там слово.