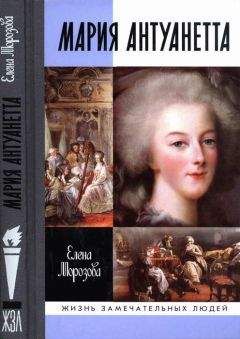Я снял тело Либуссы с креста и сложил погребальный костер из сохранившихся реликвий ее разбитой мечты, а поверх этой груды бережно возложил растерзанное тело моей любимой. Среди остывшей золы разыскал я несколько тлеющих угольков и разжег костер. Он хорошо разгорелся. И снова во мне шевельнулась надежда, что пламя костра воскресит ее, но мертвая плоть обгорала, источая запах жареного мяса, и вскоре тело герцогини обратилось в золу и пепел. Однако Люцифер был прав: она пребывала внутри меня.
Потом я ушел прочь от этого остывающего погребального костра. Я плохо помню, что было дальше… Кажется, я собирался покончить с жизнью, как вдруг с небес донеслось знакомое клацание, фырканье и дребезжанье порохового двигателя.
Я поднял глаза. Ко мне приближался Данос Сент–Одрана. Корабль летел очень низко в полуденной дымке, механизм управления его изрыгал клубы бурого дыма. Зеленый с золотом Грифон выглядел нелепо — такой серьезный, не без налета некоего драматизма, висел он в воздухе под куполом шара, алый с белым шелк уже повыцвел и пообтрепался.
Я обнаружил, что снова плачу. Меня шатало. Я даже и предположить не мог, с какой радостью встречу я владельца его, и как мне дорога его дружба.
Мой франтоватый шотландец, перегнувшись через борт гондолы, глядел в подзорную трубу. Он держал ее одной рукой, а вторая лежала на кране клапана.
— Эй, на земле! Пожалуйте на посадку, сударь! Сегодня мы отбываем из Миттельмарха!
А потом Сент–Одран прищурился и ошеломленно уставился на меня, словно только сейчас заметил в моем облике некую странность.
Он широко улыбнулся:
— Боже мой, сударь, да вы же совсем голый! Я опустил глаза, глядя на свое возрожденное тело.
— Боже мой, сударь, — ответил я. — А ведь и вправду!
ЭПИЛОГ
В тот же день мы отбыли из Миттельмарха с твердым намерением никогда больше не возвращаться в эти волшебные пределы. Неоценимую помощь оказали нам карты, инструкции князя Мирослава, равно как и изобретенный им пороховой двигатель, — мы без труда отыскали проход в наш мир и направили туда воздушный корабль.
По моему настоянию вернулись мы в Майренбург. Я собирался отдать все деньги, которые мы получили с акционеров нашей воздушно–навигационной компании, их законным владельцам. Горожане встретили нас как героев, даже сам принц пожелал принять нас у себя. Как обнаружилось, сам он ни пфеннинга не вложил в наше начинание, зато ландграфиня в своем завещании отписала обоим нам по значительной сумме (как теперь выяснилось, это и было причиной ярости барона, ее племянника). Также выяснилось, что почти все полученное нами золото поступило из казны герцогини Критской и, по закону, переходило теперь в наше полное распоряжение. Мы вдруг сделались невообразимо богаты, причем — законным путем!
Сент–Одран едва ли не с подозрением отнесся к такой удаче, тогда как я испытывал по этому поводу самые противоречивые чувства. Я не задумываясь отдал бы все свое золото, лишь бы вернуть Либуссу.
Только старый мой друг и боевой товарищ, сержант Шустер (который, как оказалось, вовсе и не пребывал в блаженном неведении относительно первоначального нашего плана), недвусмысленно выражал свою радость по поводу того, что все удачно сложилось. Он настоял на том, чтобы дать в нашу честь праздничный ужин в большом зале «Замученного Попа». Атмосфера радушия и дружелюбия немного развеяла безысходность мою, печаль и напомнила мне о вполне заурядных радостях, существующих в мире. В скором времени отбыл я в Бек, оставив Сент–Одрана в Майренбурге, где он вместе с учеными мужами города вознамерился всесторонне изучить секреты порохового двигателя князя Мирослава и построить воздушный корабль, который до недавнего времени существовал лишь в безудержном воображении шевалье.
Вскоре я уже наслаждался уютным покоем родимого Бека и родительскою любовью. Оба — отец и матушка — приняли меня с радостью, отметив при этом, что я изменился (в лучшую сторону), а батюшка, мучимый к тому времени всевозможными хворями, начал даже поговаривать о том, что пора уже мне потихонечку браться за управление имением, которое мне предстоит унаследовать, поскольку старший мой брат, судя по всему, долго не задержится на этом свете.
Мятежный дух мой больше не отвергал притягательной прелести мирной и упорядоченной жизни, этой провинциальной гармонии, этих устоев неукоснительного здравомыслия и строгой морали, которые являлись нашей семейной традицией. Библиотека в имении Бек по праву считается лучшей во всей Германии, и вскоре я начал искать — поскольку теперь уже знал, что мне нужно, — немалое количество книг, освещающих те вопросы, которые занимали меня тогда больше всего. Но не смотря на покой и уют, изобилие толковых и умных книг, трогательную обо мне заботу и любовь моих домашних, несмотря на внимательное изучение истории семейств Картагена, Мендоса и Шилпериков и ту особую ветвь, которая свела все три рода вместе, я вскоре обнаружил, что не имею ни подходящего склада характера, ни, сказать честно, особенной склонности для того, чтобы стать следующим хозяином Бека.
Говоря по правде, я вообще не годился на то, чтобы стать чьим–нибудь господином; а постоянные речи матушки о ее надеждах оженить меня — хотя я понимал, что она хочет мне только добра, — уже начали раздражать меня и сердить. В жизни и смерти невестой моею, моей нареченной осталась Либусса, хотя я вовсе не предавался мрачному отчаянию и не был подвержен ни приступам черной меланхолии, ни припадкам внезапного бешенства, ни наплывам таинственных страхов. Либусса жила во мне, в моем теле, как живет она и теперь, и знание это отнюдь не ложилось мне на сердце тяжким грузом. В отличие от героинь, скажем, Замка Вульфенбах или Рейнской сиротки, я, как и Либусса, едва ли способен был испытывать длительное отчаяние и оставался натурою деятельной и активной. Чего мне действительно не хватало, так это легкого, беззастенчивого и доверительного общения с женщинами, чья восприимчивость и уязвимость были, как мне представлялось тогда, весьма близки к моему состоянию.
Каким бы образом ни сработала эта алхимия — было ли то результатом смешения тинктуры и крови в ужасающем ритуале либо тех восхитительных переживаний, которые мне довелось испытать, соединяясь с Либуссою на любовном ложе, — она, безусловно, необратимо изменила дух мой и тело. Но интересы мои остались неизменны (никогда не питал я особой склонности к геройству на поле брани, охоте и прочим забавам подобного рода), но постепенно круг их расширялся, вбирая в себя и то, что Общество наше относит исключительно к Женской Сфере и что, тем не менее, не являлось пустым и простым времяпровождением, так как предполагало наличие определенного взгляда на мир. Много сил и энергии посвящал я тогда садоводству — и музыке.