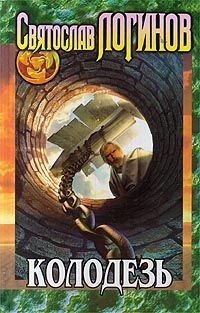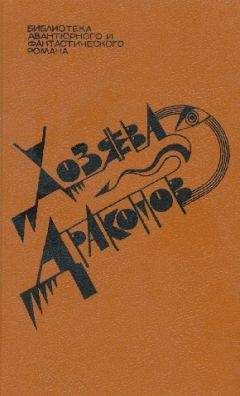Ознакомительная версия.
– Эй-эй! – неумно заорал Семён и, размахивая ржавой саблей, ринулся за похитителями.
Кюрали ужасно удивились, очевидно, рабу в таких случаях полагалось молчать и не вмешиваться. Всё же один разбойник повернул и пошёл на Семёна, неслышно ступая по камням ногами, обутыми в мягкие чувяки. За саблю он взялся, когда Семён уже размахнулся что было мочи, собираясь рубануть сплеча. И рубанул. Но сабля вывернулась из руки и брякнула где-то в стороне. А чернобородый весело смеялся, скаля белоснежные зубы, и то ли просто держал клинок на отмахе, то ли примерялся, как ловчей разделать Семёна на куски, чтобы способней было вечерять тонконогим, вечно голодным шакалам.
Страха Семён не чуял, не та пора подпёрла, чтобы пужаться, прежде себя надо было выручать. Семён отшагнул назад, словно споткнувшись, пал на карачки и уже с земли метнул в обидчика камень, благо что валялось их всюду преизрядно и было из чего выбирать. Сильно бросил и метко: не отшатнись белозубый – как есть опрастал бы ему камень всю улыбку. А так лишь по щеке мазнул, расквасив ухо и заставив горца ощериться и злобно взвыть.
Тут уже приходилось заботиться не об овцах, а о той шкуре, что всего дороже. Будь кругом ровное место, только бы тати его и видели, такого стрекача задал Семён. Но нога попала на щебёночную осыпь, и Семён закувыркался вниз, рёбрами проверяя, прочен ли горный хрящ.
Может, и вправду известковый камень дрествянику не чета, но Семёну и такого с лихвой хватило. Когда в глазах прояснело, Семён увидал, что надёжно связан, а вокруг сгрудились кюрали. Один, с распухшей скулой, всё ещё хватался за оружие, а другие уговаривали его на непонятном горском языке. Из всех разговоров Семён уразумел лишь многажды повторяемое слово «бакшиш».
Слово это любому понятно и всякую рану целит. Белозубый успокоился, Семёна поставили на ноги, пинком указали путь, не позволив и оглянуться на места, к которым присох сердцем, хоть и не хотел себе в том сознаться.
В ауле Семёна два дня выдерживали в смрадной яме, а потом погнали дальше в горы. Семён и плакать забыл, пяля глаза на чудеса, что вздыбились окрест. Видать, весел был господь, когда сию землю творил. Не иначе как из хмельного озорства перекосил всю округу, а на бугры да ухабы с пьяной щедростью понасыпал всяких диковин. Там – река с высокого камня прыгает, там – редкий овощ, словно сорная трава, растёт.
Семо – пропасть, овамо – стена. Солнце голову печёт, а на горной верхушке – снег. Толикими чудесами лезгинский край славен.
Когда на перевал влезли, Семёну уже не до погляденья стало: ноги сбил и озяб не по-летнему. Хвала всевышнему, путь долу повернул, снова теплом запахло. Новый край открылся: грузинские либо же иверийские земли, из коих и ворон домой костей не занашивал.
Там Семёна и продали вдругорядь.
Грузины народ христианский, хоть и говорят по-своему, и молятся тоже не по-русски. За то им от бога наказание: жить под бусурманами и платить дань то ыспаганскому падишаху, то салтану турецкой земли. Казалось бы, Семёну от того ни прибытков, ни убыли ждать не приходится... ан, вышло по-иному.
Бывало, во младенчестве мать Сёмушку стращала: «Гляди, баловник, баб-яга придёт – отдам тебя. Она таких, как ты, любит – враз к себе утащит». И вот явилась бука наяву, оборотившись сухопарым турком в красной феске с кисточкой. Прибыл в ленный край страшный бааб-ага: отбирать христианских мальцов для султанской службы. Хватали отроков с восьми до осьмнадцати лет, хотя не брезговали и малолетком, а порой загребали и старших. От Абхазии до Кахетии стон стоял в православных домах. Кто только мог, старался откупиться чужими душами, и потому молодой парень и часа на невольничьем рынке не простоял.
Заметить чужую тугу средь собственных бед Семён не мог, и уж верно облегчения ему это не дало бы. Видел лишь, что купил его у абреков знатный грузин с тоскливыми глазами и тут же передал турку в обмен на бумажный свиток с печатью на узорном снурке. Заплачено за Семёна было семьдесят маммуди – целое состояние, так что впору возгордиться. А Семён стоял тусклый и не интересовался знать, в какую прорву деньжищ его оценили.
Новые владельцы прикрутили Семёна вместе с десятком таких же бедолаг к общему ярму и погнали дальше на юг – в туретчину. Добро, что хоть малышей не забили в колодки, а оставили бежать на длинном поводке, словно собак на сворке.
Охраны было всего – сам бааб-ага на коне да четверо пеших воинов с тяжёлыми пищалями и кривыми турецкими сабельками. Не охрана, а сущие слезы, но на обоз никто не посягнул, даром что в горных краях и последний оборванец с ножищем бегает, словно Кудеяр-разбойник. Петь, да плясать, да ножичками помахивать – это они мастера, а детей выручить побоялись, робость осилила или умненькая мысль, что случись что с караваном – бааб-ага вернётся с большой силой и возьмёт своё вдесятеро. Тогда уже о своих сыновьях рыдать придётся.
Так и шли турки по стране, будто отару овец перегоняли. Носатые грузинки выбегали навстречу колодникам, причитали по-своему, совали пресный лаваш, капающие рассолом лепёшечки сулгуни, медовые соты, мелкие монетки. Стража дозволяла.
Пока шли через Курдистан, Семён и турецкую речь начал помалу разбирать. Дело нехитрое – турецкий говор от шемхальского разнится не сильно. А вот грузинского языка так и не превзошёл, остались слова тарабарскими: тумба-кви, тумба-ква, тумба-квили-капитоли-капитодзе.
В анатолийские земли добирались два месяца, дома за это время, поди, осень наступила. Однако всякому пути конец бывает – однажды замаячили впереди купола и минареты пленного Царьграда. Бааб-ага от радости, что в срок добрели и никого дорогой не потеряли, песню завёл.
* * *
Город оказался преогромным – ни допрежь, ни потом Семёну ничего схожего с Царьградом видеть не привелось. Говорят, древний Вавилон ещё побольше был, но ему господь за гордость людскую языки помешал, отчего народы врозь разбрелись. И по всему видать, второму Риму та же судьба уготована. Гомон на улицах стоит неудобьсказуемый, и каждый человечишко по-своему балаболит.
Обоз остановился в церкви. Семён уже к такому привык и не вздрагивал, лишь мрачнел и тайком крестился на те места, где прежде святые образа висели.
Турки икон не имеют и не понимают. Всякую красоту им заменяет бестолковый узор. А вместо святого креста ставят на куполе рогатый месяц. Тут уж и глупый поймёт, кому они там молятся. А с тем собором, куда привёл колодников бааб-ага, бесермене и вовсе непотребство совершили; Семён глянул, так зашёлся от испуга, хотя, казалось, ничто его больше удивить не может. Превратили нехристи святую церковь в солдатский стан – по стенам развешали свои турецкие знамёна и волосяные бунчуки, в алтаре поставили козлы с ружьями. А ведь когда-то большой монастырь был, женский... курился под куполом ладан, монашки пели согласно, бывало, сам патриарх служил, благо что Святая София от монастыря через площадь высится и идти недалёко. А ныне – в Софии мечеть, в Ирине – казарма, и, попущением божиим, никоего отмщения богохульцам нет: не погубил еси их со всеми беззаконьеми, но человеколюбствовал обычно. Аминь.
Ознакомительная версия.