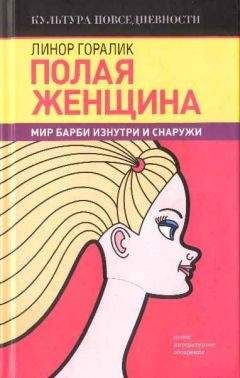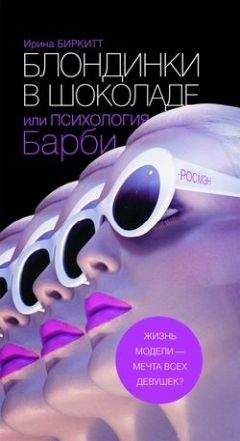Хвала неизвестному стеклодуву, бутылка не лопнула в ее руке, превратившись в горсть бесполезных осколков, лишь сбросила с приятным уху звоном лишние чешуйки, распустившись изумрудной розой с неровным бритвенно-острым краем. Эту розу она, коротко выдохнув, вогнала Бригелле в промежность.
Слабая боль рождает крик. Сильная боль любит тишину. Так учила ее когда-то Каррион на своих занятиях, когда она, излупленная до полусмерти, валилась на пол фехтовального зала, ощущая, что спина и бока превратились в одну большую хлюпающую кровью и сукровицей рану. Когда боли по-настоящему много, человек не кричит, у него не остается сил на крик, лишь задыхается, глотая воздух.
Должно быть, это мгновенье подарило Бригелле чертовски много боли — она не закричала, но изогнулась, всхлипнув, сапожок, стиснутый рукой Барбароссы, задрожал, будто плоть в нем, секунду назад напряженная до предела, обмякла, став полужидкой. Выронив постромки, она прижала руки к промежности, превратившееся в месиво из разорванного влажного шелка.
Барбаросса ударила еще раз — под колено. Снова в промежность. В живот. Бригелла покачивалась на ногах, не в силах ни отойти, ни упасть, изумрудная роза, входила в нее раз за разом, рассыпая осколки, выплескивая на пол все новые и новые порции крови из ее расползающейся промежности и искромсанного живота. Она пыталась прикрыться, хоть в этом и не было уже смысла, но рука ее двигалась вяло и слабо, будто во сне, тело дрожало, медленно оседая на слабеющих коленях.
Барбаросса не могла остановиться. В ее правую руку словно вселился рой голодных демонов, наполнив ее силой, рука словно жила сама по себе, раз за разом вколачивая бутыль в податливую мякоть человеческого тела. Бутыль трещала, каждый удар откалывал от нее куски, застревавшие в теле Бригеллы или сыплющиеся ей самой на лицо — звенящие куски стекла, перепачканные кровью, опадающие изумрудно-алые лепестки.
Это тебе за Красотку, семь херов твоей матери! За твою блядскую улыбочку! За старикашку и за демона, которому ты скормила мои кишки! За все кипящие моря Ада и миллионы корчащихся в них душ! За Котейшество, за паскудную мою ведьминскую жизнь, за Кверфурт, чтоб его сожрали болота, за Панди, бедную Панди, за…
Когда от бутылки осталось одно горлышко, Барбаросса, стиснула дрожащую, точно ветка на ветру, руку Бригеллы, и резко притянула к себе, заставив шатающуюся «шутиху» склониться, точно отдавая ей, распластанной на полу, торжественный поклон. И прежде чем стекленеющие глаза за черной маской успели хотя бы моргнуть, сознавая происходящее, впечатала этот осколок ей под подбородок.
Это не было похоже на тот смертоносный свист, с которым заканчивает поединок рапира. И на шипение ножа, ставящего последнюю точку в затянувшемся споре. Это был хруст — хруст распоротой кожи и лопающейся гортани.
Бригелла выгнулась, ее вскрытая глотка заскрежетала, точно прохудившаяся труба, выплеснув наружу еще одну порцию крови — в этот раз густой и парящей — потом осела на правую ногу и рухнула лицом в пол. В ту последнюю секунду, за которую ее вопящая душа беззвучно выла, пытаясь зацепиться за выпотрошенное тело, глаза под маской очистились, превратившись в пару тусклых зеркал.
А потом Ад сожрал сестру Бригеллу. Почти беззвучно, даже не клацнув зубами. И ее пустая оболочка с развороченным животом, никчемная, точно кусок упаковочной бумаги, еще пару раз дернувшись, неподвижно замерла на полу.
Барбаросса рухнула на спину, судорожно глотая воздух. Пальцы, сжимавшие горлышко бутылки, свело так, что она не в силах была их разжать. Сердце колотилось в груди точно молот в руках безумного кузнеца, ожог на ладони пульсировал от жара.
— Дьявол, — пробормотала Барбаросса, сама не зная, к кому обращены ее слова, — В этом городе и так не так-то много чертовок, способных написать в честь меня миннезанг, а только что стало меньше еще на одну…
— Поздравляю с победой, — сухо произнес бесплотный голос, — Я бы сказал «заслуженной», если бы она не была наполовину заслужена мной самим…
Гомункул. Сука.
Демон.
Прислуживающий старикашке демон, запертый в ее потрохах. С маленькими песочными часами в лапах и уймой острых когтей…
Выпустив наконец бутылочное горлышко из пальцев, Барбаросса прижала руку к груди, как прижимают пробитые мушкетной пулей пехотинцы, силясь понять, как сильно ранены и не ощущая боли. Дублет был цел, хоть и лишился пуговиц, рубашка под ним мокра от пота и чужой крови, тело не болело, сетуя на новые раны, но… Она вновь ощутила крохотный твердый осколок, засевший за грудиной. Маленький, почти незаметный, едва ощутимо царапающий изнутри.
Бригелла называла его Цинтанаккар.
Осколок шевельнулся, стоило лишь ему услышать свое имя. Зловеще дернулся, точно ему не сиделось на своем месте. Очень маленький, совсем крошечный осколок…
Скрипя зубами, Барбаросса поднялась на ноги. Ее шатало, словно она опрокинула в себя кувшин крепкого вина, голова дьявольски звенела, а грязные стены покачивались в такт ее шагам, но все-таки она была жива. В Броккенбурге есть твари, которых если не убьешь сразу, они обязательно извернутся, чтобы укусить тебя в ответ. Она хорошо знала таких тварей — она и сама принадлежала к их числу.
— Надо поторапливаться, — пробормотал гомункул, — Мы упустили до хера времени и неизвестно, успеем ли наверстать. Смею напомнить, у тебя осталось шесть часов с небольшим и поверь, это отнюдь не великий срок.
Мешок с гомункулом остался на прежнем месте, но Барбаросса даже не взглянула в его сторону. Нагнулась над грудой оружия, возвращая его на привычные места. Струну от арфы — на запястье, нож — за голенище башмака. Карманы дублета были вспороты, так что «Кокетку» и «Скромницу» пришлось, поспешно чмокнув, сунуть за ремень. Не очень удобно, но надежно, ей не привыкать.
— Эй, ведьма! Спешу напомнить — мы с тобой заключили договор! — гомункул повысил голос, — Ты ведь не собираешься его нарушить?
— Ты верно заметил, я ведьма, — холодно произнесла Барбаросса, отряхивая бриджи и шоссы от пыли, — Я признаю только те договоры, что скреплены моей кровью.
Залитая кровью рубаха выглядела препаскуднейшим образом — кровь Бригеллы уже начала сворачиваться, выцветая на глазах, делаясь из рубиновой розовато-ржавой. Лишившийся пуговиц дублет висел на ней точно на пугале. Она должна сейчас выглядеть как куница, залезшая в курятник, которая обнаружила там вместо добычи стаю затаившихся собак. Но, пожалуй, сойдет. Этот город видел сестрицу Барби и в куда худшем виде.
— Не вздумай бросить меня здесь, чертово отродье! Если ты думаешь, что без моей помощи у тебя есть хотя бы тень шанса, ты еще глупее, чем я сперва решил! Цинтанаккар сожрет тебя живьем!
Странное дело — несмотря на то, что к мешку не прикасалась ничья рука кроме ее собственной, он показался ей куда тяжелее, чем раньше. Словно кроме стеклянной банки с плавающим там разумным комком плоти в этом мешке оказались сложены все ее, сестрицы Барби, хлопоты и тревоги. Он сделался таким тяжелым, что ей не без труда удалось взгромоздить его за спину. Если этот груз не облегчить, безрадостно подумала она, вскорости он, чего доброго, сломает ей хребет…
— Не беспокойся, маленькая сопля, я не собираюсь отлынивать от договора. Просто сперва… Сперва я хочу убедится, что не прогадаю со сделкой.
— Мне нужна кислота.
Господин Лебендигерштейн настороженно зыркнул на нее из-под густых бровей. Плотный, как и все бакалейщики, он сам выглядел как набитый мешок с мукой, но по своей лавке передвигался удивительно ловко, а тяжелые руки, способные раздавить в объятьях пивной бочонок, легко вытаскивали из сундуков все, что требовалось, будь то сверток с рисом, кадка с мукой или крохотная хрупкая склянка.
— Вы сказали, кислота, госпожа ведьма?
Барбаросса нетерпеливо кивнула.
— Немного, малый шоппен. Аква фортис, сильная вода[1]. Но сойдет и царская водка[2].
Господин Лебендигерштейн нахмурился. Он не любил иметь дела с ведьмами и не привечал их в своей лавке, но права старая саксонская поговорка, утверждающая, что за мудростью надо идти не к философу, а к лавочнику. Господин Лебендигерштейн за годы работы в Броккенбурге преисполнился достаточно мудрости, чтобы не отказывать ведьмам из «Сучьей Баталии», когда те появлялись на пороге его лавки. Правда, и взирал на них при этом так, точно они явились затребовать не бобов, вина или перца, а сушеных вороньих лап, истолченных в порошок пиявок и желчь отцеубийцы — или что там еще ведьмы варят в своих дьявольских котлах?