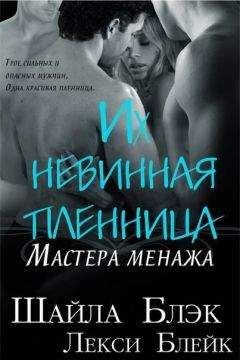Ни слова.
Ни словечка.
Ни одного.
На стену лезли снова. Будь они людьми, ужас погнал бы их обратно, ужас перед топкой, что все еще догорала в проломе. Но вода оттуда ушла, через треснувшую внутреннюю кладку, и монахи спустились туда, чтобы защищать пролом снова. А им пришлось спуститься, оттого что на это место стены приходилось штурмующих не больше и не меньше, чем на соседние.
Столько, сколько могло поместиться в ширину.
У них теперь поэтому недоставало лестниц, так вот — лезли, громоздясь на плечи и спины друг другу. Кроме того, через некоторое время спустя один человек, сорвавшись вместе с длинною сетью, которыми запутывали их монахи, не был затоптан соседями — как-то исхитрился, — а из лежащего рядом, с крюкастым копьем в шее, он выдернул копье, — точней, его наконечник. И потом обмотал одну из лап крюка краем сети и зашвырнул это вверх, так что получилось — крюк зацепился за край стены, а сеть свисала почти до земли. Само собой, получилось у него не с первой попытки. И тогда он ухватился за сеть и полез наверх, и видя, что это способ, за ним следом полезли другие, и кто-то затем стал такие попытки повторять. Воистину, кажется странным, что Метоба обвиняли, будто нет у него воображения. И нельзя не сказать еще, что монахов этой штукой, с сетью, они очень удивили. Потому что это очень древний способ. Можно подумать, дикари с севера читали хроники гезитских войн. В ту пору, когда способ этот еще не вышел из употребления, почиталось, что он годится только для не очень высоких стен и не очень тяжелых доспехов; и для ловких воинов — стоит добавить еще; но, как видно, чересчур прочные сети были в ходу на Моне, а на скалу возле Трайнова фьорда за птенцами бакланов они и без всякого «метба» забирались. И ничего, еще и какие жирные добывались птенцы.
Для одного нз тех, кто был сейчас под стеной, происходящее могло бы напомнить не скалу возле Трайнова фьорда, а Бирючий утес, или еще что-нибудь из Округи Множества Коров, если бы стал он припоминать.
Уж сказано, что двоих Метоб не смог сделать собой. Сколтис был первым, а вторым — Дейди, сын Рунейра. И уж об этом втором — почему он не поддался безумию, запалившему всех вокруг, — двух мнений быть не может, что бы там кто ни говорил.
А кое-кто говорил, будто дело, мол, в том, что Дейди был чужим здесь, и не пытался стать не чужим, и, мол, даже он если и пришел так же близко к боевой ярости, как все, сигнал должен был выглядеть — чтобы подействовать на него, — как-нибудь этак по-другому, «по-многокоровски».
(Ну прямо можно подумать, что в соседней округе живут уже люди с пятью ногами.)
Но порою рядом, по одной с тобой земле и по одной палубе, ходит человек, более удивительный, чем если бы было у него пять ног, — а всем наплевать. Один Дьялвер смутно чувствовал, что жизнь обошлась с Дейди несправедливо; а все остальные только думали: мол, по его несдержанному поведению порой заметно, что сын служанки; а потом переставали об этом думать.
Дьялвер? А что — Дьялвер? Дьялвер Простоватый. Что может значить его мнение? Тем более что у него и мнения-то не было, а было одно чувство. Наверное, он был очень мужественный и очень достойный человек, если сумел это почувствовать, — что, обойдись жизнь с Дейди Лесовозом справедливо, не дружинником он бы должен стать.
Дьялвер вообще в этом разбирался. Вот Сколтиса он очень уважал, и это — в отличие от обхождения его с Дейди — никого не удивляло.
А Дейди — пытаясь понять, за что же ему от Дьялвера такие милости, — одно время даже заподозрил того в дурном к себе интересе, это Дьялвера-то, у которого была жена (правда, умерла в родах) и две дочки, и вообще мужчина как мужчина, ничего такого. Вот ведь до чего можно человека довести — и до чего он может сам себя довести, добавим тут. А в конце концов Дейди решил, что у Дьялвера это был — тогда, еще на Джертаде — просто каприз. Добродушное самодовольство: «А и пусть они у нас остаются. Что там лишняя дюжина народу — не объедят». Он очень хорошо помнил эти слова. Просто каприз, а потом от каприза стало неловко уж отступать. Ему было легче так считать, Дейди.
Он бы не вынес, если бы оказалось, что он обязан Дьялверу чем-то большим и что нельзя — всего лишь навсего, — сохранив когда-нибудь в свою очередь Дьялверу жизнь и свершив для него еще сколько-то подвигов, считать себя уплатившим сполна все долги, и повернуться к нему спиной, и отправиться восвояси.
На свете нет ничего страшнее долгов. И рабства. Вот за долг как раз мать Дейди в служанки и угодила. Человека делает рабом очень много человеческих вещей. Дар. Милость. Месть.
Метоб. Он тоже человека оборачивает в невольника. А Дейди, сын рабыни, знал о себе очень твердо — ничьим рабом он не будет никогда.
А вы говорите — «по-многокоровски». Ни в одной округе мира не нашелся бы такой Метоб, который отнял бы у Дейди, сына Рунейра, волю распоряжаться собой.
Получилось это уж никак не по его желанию. И даже когда — сперва сорвавшись с места разом со всеми, оттого что ему нельзя было отставать от своих, — он догадался, какие творятся вокруг дела, он почувствовал себя точно так же, как тогда, на совете в Джертаде.
Точно все смотрят и смеются. Хотя на самом деле тогда смеялся один Сколтиг.
«Опять он никому не нужен! Гляди-ка! Ха-ха-ха-ха-ха! Боги приходят, но видно, не к тебе, сын Рунейра. А может, и не сын? Соврала небось твоя мать — с рабыни станется… Метоб, и тот обминул тебя стороной. Метоб, и тот не будет иметь с ним дела». Дейди не представлял себе эти слова — он просто бы не успел. Но он почувствовал себя обделенным — опять и опять обделенным, как всегда в нынешнее лето. Ну он к этому просто-таки привык уже. Это было как боль, которая разрывает что-то в тебе внутри. Нужно было только стиснуть зубы и перетерпеть. А потом он об этом сразу забыл, оттого что как раз в то мгновение над стеной вздохнуло пламя, и оранжевый свет вырвался наружу из пролома, жутко ложась на людей, и на рыжие и серые камни изнутри.
«Эх, непогода! — изумленно подумал Дейди. — А ну как он в самую топку сунется!» К кому относилось «он», Дейди не сумел бы определить, и Дьялвер и Ганейг были пока возле него одинаково. Но это была только первая, ошеломленная мысль. Пролом оказался от них прямо напротив, перед глазами, и Дейди задохнулся, а восстановилось дыхание у него как следует разве что через три шага.
Туда лучше было не смотреть, и Дейди больше не смотрел туда.
Сколтису, что оказался сбоку, виден был только появившийся снаружи свет, — так что это именно со слов Дейди говорилось кое-где, что был там, мол, не простой огонь: он словно радовался тому, что пожирал, и хватал своими языками, сбивая вниз со стен. Это у Дейди оказалось такое богатое воображение. У него вообще была куда более высокая и сложная душа, — и куда более гордая, — чем бы полагалось сыну служанки.