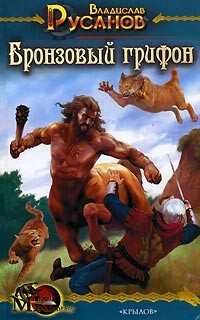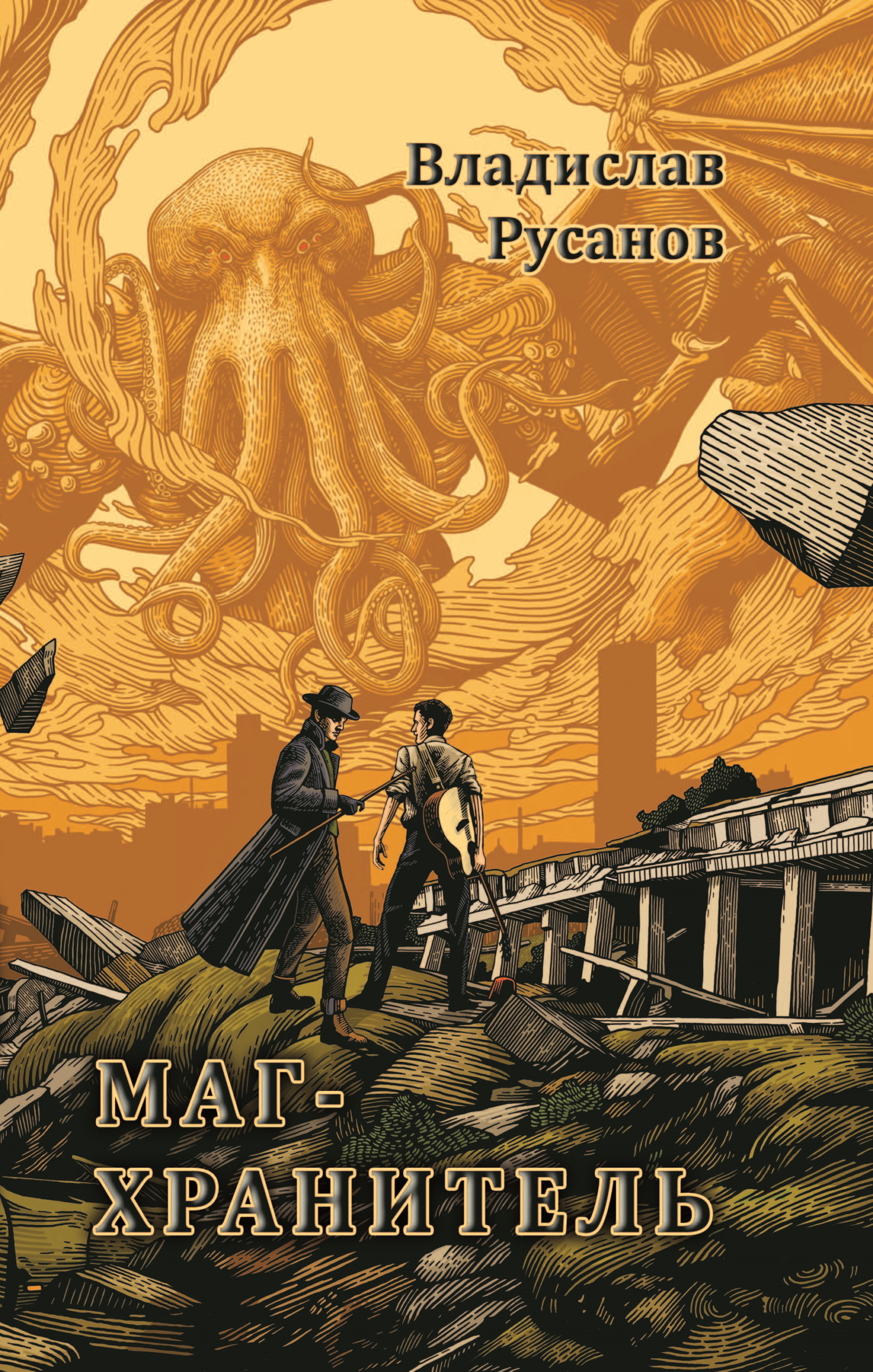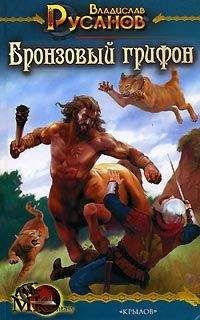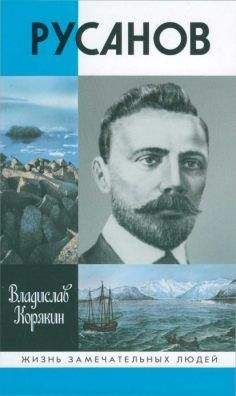– Ну… – протянул Антоло. – Может, тогда и банкиру фра Борайну сообщите обо мне? – сказал он нерешительно. – Знаете, «Борайн и сыновья», на Старобронной? Это неподалеку от цирка маэстро…
– Да знаю я, знаю, – прервал его профессор. – А зачем банкиру знать?
– С этим банком в Аксамале работает мой отец.
– А! Тогда понятно. Надеетесь известить родных?
Антоло неопределенно пожал плечами.
– Ну, да. Хотелось бы…
– Хорошо, сообщу. – Под неодобрительным взглядом надзирателя профессор заторопился. – А вы, фра Емсиль? Что-нибудь хотите?
– Ничего, – мотнул головой барнец.
– Совсем ничего?
– Совсем. Хотя нет. Мэтр Гольбрайн, если из моего Катера будут справляться, не могли бы вы ответить, мол, пропал Емсиль без вести?
Профессор задумался на мгновение:
– Не знаю… Не уверен, что это возможно. Даже если я попрошу декана Тригольма…
– Тогда извините, – невозмутимо проговорил Емсиль. – Раз не выйдет, значит, не выйдет. Ничего не надо. Прощайте, мэтр Гольбрайн.
Астролог сник, опустил плечи.
– Прощайте, господа студенты…
– Бывшие студенты, – поправил его т’Гуран.
– Нет, бывшими вы станете, когда я уйду! – упрямо возразил профессор. – Прощайте, господа студенты. Мне будет вас не хватать на факультете.
Молодые люди нестройно ответили. Антоло почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Поразительно! Раньше он считал себя твердым человеком, не склонным рыдать по пустякам, а тут – прощание с профессором астрологии. Да, с хорошим, увлеченным своей наукой, требовательным, но в меру человеком, отличавшим его из числа прочих студентов, но что с того? Ведь Гольбрайн не родственник, не возлюбленная… Отчего же тогда выступают слезы? Табалец сделал вид, будто у него зачесалась бровь, и украдкой вытер ресницы о плечо. С удивлением заметил, что т’Гуран повторил его жест. И он, что ли? А еще дворянин…
Едва они вернулись на нагретое место, то есть на кучки прелой соломы, которую подгребали под себя по чуть-чуть всю ночь, Вензольо ехидно осведомился:
– Ну что, ’асп’ощались с любимым п’офессо’ом?
– Распрощались. А что? – угрюмо ответил Емсиль.
– Вы его еще в зад ’асцеловали бы!
Барнец смерил его тяжелым взглядом с ног до головы и молча отвернулся. Должно быть, решил, что вступать в перепалки с глупцом – занятие бессмысленное и неблагодарное. Антоло и т’Гуран последовали его примеру – иногда Емсиль поступал на удивление здраво. На удивление потому, что молва приписывала уроженцам Барна скудоумие и тупость.
Вензольо попробовал еще что-то ляпнуть, но, поскольку дразниться не интересно, когда тебе не отвечают – истина, известная с детства, – умолк, обхватил голени руками и замер, жалкий и скрюченный.
– Если Борайн успеет послать весточку отцу… – сказал Антоло вельсгундцу. – Ну, хоть бы голубя отправил, что ли… Так вот, если он успеет до суда, можно попробовать подкупить судей. Не рудники, а строительство дорог, например. Или соль выпаривать.
– Ты думаешь, это легче? – приподнял бровь т’Гуран. – А впрочем, как знаешь… Каждый вертится, как может.
– Почему «как знаешь»? – возмутился табалец. – Я думал, приговор для всех равный будет. Если одному облегчат значит и другим тоже.
– Да? – Т’Гуран смутился, опустил глаза. – Вот ты значит как, обо всех подумал. А я, признаться, думал только о себе, когда про посла Вельсгундии говорил…
Их прервало появление в коридоре сразу троих надсмотрщиков. Один тащил здоровенную корзину, и все арестанты тут же зашевелились, вскочили на ноги, так и норовя перебраться поближе к решетке, просовывали сквозь нее руки с растопыренными пальцами. Надсмотрщик с корзиной попятился, зато двое других стражников, вооруженные длинными шестами, схваченными на концах железными оковками, не зевали и короткими точными ударами отогнали особо обнаглевших в глубь камеры.
– Пожрать принесли, – высказал догадку Емсиль и оказался прав.
Один из надсмотрщиков долго прилаживал к тяжелому замку зубчатый ключ, потом уперся, всем весом налегая на кольцо, и двери, сделанные тоже из железных прутьев, отворились.
Оказавшаяся в камере корзина была наполнена кусками хлеба, кое-где подцветшими, но в целом вполне съедобными. Правда, студентам из нее не досталось ни крошки. Как говорится, в большой семье челюстями не щелкают…
Фра Корзьело на цыпочках подошел к двери. Прислушался.
Тишина. Фрита Дорьяна отправилась на рынок за покупками. Немногочисленных в утренние часы покупателей отпугнут закрытые ставни лавки.
Табачник, кряхтя, вытащил из угла сумку, брошенную туда прошлым вечером, когда он вернулся из «Розы Аксамалы» испуганный и дрожащий. Собственно, чего бояться? Потасовки в борделях происходят довольно часто. И в дешевых, и в дорогих. Младшие офицеры дерутся со студентами, старшие – между собой. Моряки так и норовят сцепиться с сухопутными войсками – пехотой, кавалерией, саперами. Случается, и кровь льется, а уж о расквашенных носах и выбитых зубах никто и не вспоминает особо.
Но почему-то фра Корзьело не нравились вчерашние события. Какое-то подозрение грызло сердце, словно червяк спелое яблоко. Что-то не так… Будто нарочно затеяли свару.
Конечно, фрита Эстелла не бросила выгодного посетителя. Вывела через черный ход, пока Ансельм бегал за стражей. Рассыпалась в извинениях, предлагала приходить в любой день бесплатно. Лавочник обещал подумать.
Да что там думать? Он, несомненно, воспользуется предложением хозяйки борделя, но позже. Ведь не за горами очередная встреча с Министром. Обмен сообщениями у них происходил раз в месяц, на девятнадцатый день. Почему на девятнадцатый? Неизвестно. Так решил пожилой, морщинистый и седой, но все такой же бодрый, как и сорок лет назад, айшасиан из Мьелы. Корзьело про себя называл его Стариком.
Эх, Старик, Старик… Где же обещанный тобой развал Империи? Сокрушительный, неудержимый, как горная лавина. Неотвратимый, как смена дня и ночи. Желанный, как ледяная родниковая вода в разгар летнего зноя.
Ладно. Что толку рассуждать о вещах, далеких от тебя, как Внутреннее море, и недоступных, как северное сияние.
Сейчас же пора переправить послание от Министра в Мьелу, Старику.
Корзьело, сопя и ругаясь под нос, развязал веревочку, перетягивающую горловину сумки, вытащил плетку-девятихвостку. Скривившись от омерзения, он понес ее к столу, держа на вытянутых руках, словно ядовитую змею.
За окном процокали копыта.
Табачник напрягся и прислушался. Нет. Не к нему. Триединый помиловал.
Лавочник вздохнул, вознес короткую молитву и покрепче ухватился за рукоять. Острые грани безвкусной резьбы тотчас впились в ладони.
– Ну, давай же… – прошипел Корзьело. – Давай…
Рукоятка скрипнула, провернулась и разломилась на две половинки. Вернее, не разломилась, а раскрылась – одна ее часть входила в другую, словно тщательно притертая пробка в горлышко бутылки.
На столешницу выпал клочок пергамента – тонкий-тонкий, едва ли не прозрачный, сложенный вчетверо.
Корзьело поднял листочек, развернул и, держа на вытянутых руках, прочел:
– Козел впрыгнет в палисадник не позднее Кота. Губастый очень грустит.
Табачник невольно улыбнулся. Его всегда веселила манера Министра выражаться иносказаниями. Будто бы не все равно. Если поймают сыскари из тайного войска, дыба хоть так, хоть так. Как ты ни маскируй донесения. А не поймают – какой смысл прятаться за мудреными шифровками?
На самом деле козлом была Сасандра, палисадником – северная Тельбия. Следовательно, Империя намерена ввести войска в северную Тельбию через два месяца – в конце лета. Значит, дела у местных проимперских политиков идут не вполне успешно. Королевство в любой миг может заявить о своей независимости, вместо того чтобы попроситься под крылышко Аксамалы. Что ж, пусть теперь голова болит у Старика – Айшаса просто не может не вмешаться, да еще и привлечь внимание западных королевств – Фалессы, Итунии, Мораки, Вельсгундии. Наплевать на мнение соседей император не решится. Если не получится завладеть Тельбией с нахрапа, то пока не станет и пытаться.