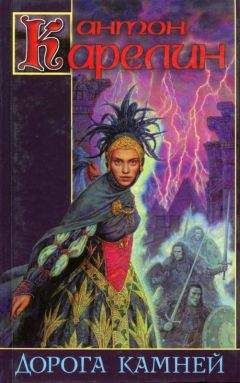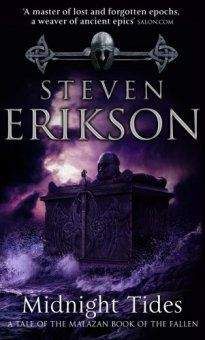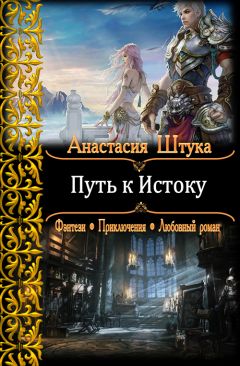Эльф снова вздохнул, но неожиданно улыбнулся, опуская руку от цветов и оборачиваясь к блестящему мокрыми глазами старику.
— Но знаешь, что превращает людей не во младших, не в низших, как говорил ты, а в равных, лишь в чем-то иных? — спокойно, почти тепло спросил он.
«Надежда?» — хотел спросить старик, но мысленно прервал себя, ибо чем, как не светлой надеждой пропитано все, что творили и творят в искусстве эльфы?..
— Может быть... яркость? — помедлив, не осознав ещё своего слова, ответил он.
— Яркость, — не улыбаясь, кивнул гость. — Вы наполнены меньшей гармонией, но большей яркостью. Меньшей глубиной, но большей остротой. Меньшим пониманием, но большим озарением... В вас меньше покоя... Быть может, ваша боль сильнее. И разве вправе кто-то, как ни был бы он глубок и мудр, лишать старика его слез при виде птенца? Кто может плыть против течения Иленн в дни весеннего разлива? Кто способен остановить голыми руками обвал? Кто знает, как вытравить из разумов людей вечный, владеющий вами страх?.. Кто может противостоять Человеку? Народу Империи в его неуклюжих, исполненных жестокости, глупости и страсти шагах?..
— Я мог бы, — невесомо ответил Он самому себе, и в этом был неоспоримо прав. — Мог бы и дальше вести Империю вперёд, все вопросы решая за вас, — делая вас счастливыми и радостно-покорными. Но сколько продлилась бы такая дорога? И сколь далеко она увела бы нас от той, что простирается в сердце каждого из вас?.. Иными ночами я вижу доверчивых, улыбчивых детей, протягивающих ко мне руки, — и просыпаюсь, потом по нескольку дней не в силах уснуть... — Он замер, подался вперёд, блеснув расплавленным серебром бездонных глаз. — Но разве существует сила, способная заставить меня повернуть? Я ступил на свой путь, оставляя вам свой.
— Он говорил, и помимо сказанных слов старик явственно слышал иные, столь близкие, знакомые ему самому: «Я слишком долго был тенью Богов. Слишком большую власть я держал в руках, слишком часто мне было все труднее и труднее воздержаться от того, чтобы не употребить её, — ведь люди, которыми я правил, всегда были столь наивны, недалеки, торопливы и глупы... Ты был прав, что ушёл, — прав и для них, и для себя, тебе не о чем жалеть. Они правы, что убивают друг друга ради того, чтобы занять место поудобнее, стать сильнее. Наследники правы, враждуя между собой; Гильдии, Княжества и Храмы правы в погоне каждый за своим. Безликие тени, танцующие на рушащихся стенах и треснувших зеркалах. Непохожие на людей из сказки, которой Империя безвозвратно далеко была. Уверенные в силе. Предавшие светлое и всеобщее ради своего... Но они правы. Ибо отныне прав не тот, кто олицетворяет собой Закон, а тот, кто ищет свой собственный путь... Я слишком долго правил. Теперь старый порядок уходит безвозвратно и навсегда, Империя освобождается из-под моего крыла. В последние годы я видел многое, что не станет доступно вашему взору ещё десятки, быть может, сотни лет. Но я хочу, чтобы рано или поздно вы познали то, что пришлось познать мне. Я желаю, чтобы вы выросли. Выросли сами. Вот ваш ответ».
Он говорил, и помимо сказанных слов старик неразличимо тихо, едва-едва слышал иные — малознакомые, непонятные, расплывчатые, укрытые сумраком и очень тяжёлые:
Тени. Ожидание. Рассвет.
Гладкий камень, стылый мрамор пола.
Стены, превращённые во свет.
Луч луны, в пустынных залах голый.
Сотни окон, тысячи миров
Рядом у руки твоей застыли...
И потери бесконечной были,
И холодный ветер вечных снов.
В темноте, над жадной бездной ртов,
Ищешь в небесах, рождённых светом,
Тщась познать подобие Ответа,
Угасая. Умирая вновь.
Невидимый ветер бился в лицо, мысли высокого и умирающего были переплетены, дыхание каждого медленно сменяло болезненную горечь на успокоение и тишину.
— Это он?.. Это Ваш ответ? — хрипло переспросил старик, не в силах оторвать блестящих глаз от одухотворённого, светящегося в сумраке лица.
Минуту эльф молчал. Пламя, поднимающееся за его спиной в иных мирах, подобно гигантскому, все сметающему плащу, медленно разгоралось.
— Настолько, насколько понять его смог Риссон, — ответил пришедший, и, повинуясь голосу покоя, призрачный плащ его шевельнулся, разглаживаясь, опускаясь. — Дальше него из вас не заходил ещё никто.
— Спасибо, — низко опуская голову, этим стараясь заменить необходимый поклон, сказал старик, и в голосе его вместе с печалью звучала и радость, какой она бывает в преддверии слез, — смешанная с выцветшей, горькой улыбкой. — Спасибо за Ваши слова. Мне кажется, Вы излечили меня.
Эльф мгновение смотрел на него, облекая умирающее, тлеющее лицо бессмертным серебром.
— Ещё нет, — после молчания без улыбки ответил он, — нет.
Старик молча глядел исподлобья, затаив дыхание. Ему показалось, что сейчас, вот просто так — здесь, именно ему — будут сказаны слова о том, что же ждёт их общий мир, что нависло над ним, — готовое вот-вот сорваться, и с диким воплем рухнуть вниз, на беззащитных, ни к чему не готовых, но столь самоуверенных и сильных в себе людей.
Пришедший взирал на человека отстранение и внешне бездумно. Что-то, быть может, решалось Им именно сейчас, — и ветер утих, связав птицам клювы, чтобы не щебетали в этот миг.
— Тебе следует позаботиться о себе, — сказал наконец гость. — Ты должен любой ценой прожить хотя бы месяца три. Ты ещё можешь увидеть те дороги, по которым идёт каждый из нас и мы все. Я хотел бы... чтобы ты успел их оценить. Крепись и ожидай.
Старик молчал; ему нечего было сказать.
— Был рад увидеть тебя, услышать твой вопрос, ответить на него, — весенним ветром прошелестел гость. И тихо добавил, уже растворяясь в кружащихся бликах, отсветах и тенях: — Прощай.
...Оставшись в одиночестве, старик положил руки на стол, склонил на них голову и застыл. Он уже ни о чем не думал, ни о чем не размышлял. Среброокий ушёл, тело и душу человека переполняла безмерная, вздыхающая печаль. Он снова, отчётливо и неоспоримо понял, что был одновременно прав и неправ, что впереди их всех ждут и поражение и победа одновременно, что получить что-то можно, лишь потеряв нечто иное, и что по-другому быть просто не могло никогда. Что самому сильному безнадёжно слабо среди танцующих без света и правил безликих теней.
Плечи его не шевелились, узкая, высохшая спина замерла; он был похож на старого, облезлого, подслеповатого и кривого, с превеликим трудом дремлющего, время от времени вздрагивающего пса. Впервые за много лет по его морщинистому лицу текли долгие, медленные слезы.
...Усталый путник, забредший сюда, увидевший беседку, олицетворение всех его надежд, отчаянно искавший утоления жажды последние несколько беспрерывно горьких лет, постоял бы минуту, так и не поднимаясь дальше второй ступени. Печально и протяжно вздохнул. И удалился бы, махнув наконец рукой, — так же неслышно, как и пришёл.