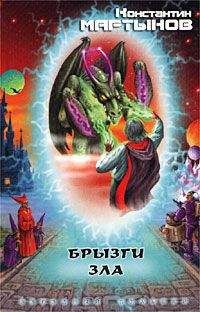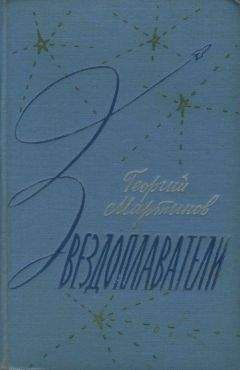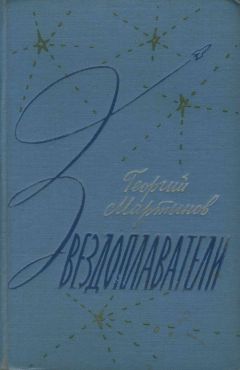Демон больше не мог двигаться, его кости трещали, тело сминалось под моим напором, и он взревел, осознав, что его бессмертию пришел конец. Уже в агонии он разом выплеснул всю накопленную энергию в надежде сжечь меня вместе с собой, превратившись в пылающий сгусток звездной плазмы… но меня уже не было. Был ослепительный комок, стремительно уменьшающийся в размерах. В ту же секунду сожженная внутренняя поверхность стянулась в точку, и я слился в единый обугленный ком.
Долгожданное небытие…
* * *
Боль… Боль!!! Все пылает! Боги! Неужели еще не конец?! Невыносимо! Сознание вернулось лишь затем, чтобы продлить мою агонию. Я же хотел только одного — умереть. Мизерикордия. Милосердие. Так называли кинжал, которым добивали поверженных рыцарей. Неужели я не заслужил даже такого милосердия? Я разлепил веки.
Белизна вокруг. Мелькают чьи-то тени… Зрение не фокусировалось.
— Приходит в себя, — донеслось из неимоверной дали. Я вновь отключился.
Стерильно-белые потолок и стены. Капельница рядом с изголовьем. Конец иглы уходит в обмазанную чем-то блестящим колоду. Это моя рука? На что же похоже все остальное?
В поле зрения показался хмурый субъект в халате и белом врачебном колпаке. Из-под колпака выбивались черные вьющиеся волосы.
— Дайте мне спокойно умереть! — Губы и язык онемели и не подчинялись; чтобы меня поняли, пришлось повторить это дважды.
— А больше ты ничего не попросишь? — неожиданно вспылил врач. — Пивка холодного, например? Два месяца трудов псу под хвост? И не мечтай! Нет, мужик, я заставлю тебя жить! Хотя бы для того, чтобы мог рассказывать своим внукам, как из тлеющей головешки сделал человека!
Мне бы послать его к чертям, но спорить не было сил. Подошла медсестра и сделала укол прямо в трубку капельницы. Боль чуть-чуть отступила, и я уснул…
Поправлялся я долго и скучно: сон — кормление — уколы — сон. Двигаться я не мог, и ежеутренне две молоденькие медсестры обтирали меня влажной марлей. Тонкая розовая кожица, блестящей пленкой обтягивавшая мое тело, прикосновениям не радовалась. Кормили меня сначала внутривенно, потом из фаянсового чайничка с носиком-воронкой то ли киселем, то ли густым бульоном — вкуса я не чувствовал совершенно. Два раза в день появлялся врач, сопровождаемый свитой ординаторов и интернов, изучал мое недвижное тело, объясняя его состояние почтительно внимающей аудитории, и величественно удалялся, не забывая сделать фотографию, Я даже не гадал, зачем ему это нужно — наверняка для рекламного ролика или для тех самых пресловутых внуков. Лично я этот ролик смотреть бы не стал.
Содержание речей из-за обилия медицинской терминологии до меня не доходило совершенно. Гораздо позже, когда сознание достаточно прояснилось, я понял, что шевелиться мешало наложенное кем-то заклинание. Элементарное, рассчитанное чуть ли не на младенца, но справиться с ним мне было не под силу.
Я уже потерял счет дням, когда заклинание сняли, и в палате появился здоровенный детина, с великим энтузиазмом принявшийся разминать мои иссохшие мускулы. Кости хрустели и взрывались болью, но это не шло ни в какое сравнение с пережитым, наоборот — приносило в мое растительное существование хоть какое-то разнообразие.
Еще через месяц я встал на ноги, но от этого мало что изменилось: окон в палате не было, за порог меня не пускали, а редкие попытки воспользоваться магическими навыками успеха не приносили. Разговаривать со мной явно не рекомендовалось: на все мои вопросы сестры только мило улыбались, а врач их вовсе не замечал. Зато в палате появился гимнастический тренажер, на котором я проводил все свободное время: занятия помогали отвлечься от мыслей об Айлин.
Она так ни разу у меня не появилась, и я не знал, что и думать: либо посещения запрещены, либо она не имела возможности. Ни в ее смерть, ни в нежелание появляться верить не хотелось.
А дни тянулись и тянулись, сливаясь в своей однообразности, пока на очередной утренний осмотр доктор не появился с низеньким пухленьким толстячком. Толстячок, благожелательно улыбаясь, держался на втором плане, не рискуя высовываться, из чего я заключил, что личность он малозначительная.
Очередная моя ошибка.
Осмотр затянулся вдвое против обычного, закончившись, как всегда, фотографированием.
— Что ж, — глубокомысленно изрек он напоследок, — полагаю, что вы достаточно здоровы, чтобы освободить палату для следующего уникума.
Самомнения ему было не занимать, и он явно готовился продолжить свое торжественное самовосхваление, но здесь вперед-таки высунулся забытый всеми толстячок:
— Позвольте, позвольте! Вы так и не представили меня этому молодому человеку! А для меня этот случай не менее интересен, чем для вас!
Эскулап некоторое время пожевал губами, словно пробуя предложенное на вкус. Вкус с его точки зрения был отвратительным — физиономия врача недовольно сморщилась.
— Этот господин… — Врач небрежно кивнул в сторону пухлячка и переспросил, не повернув головы, — простите, не помню вашего имени…
— фон Штольц! Генрик фон Штольц, к вашим услугам! — Толстяк попытался прищелкнуть каблуками, но помешали надетые на обувь больничные бахилы.
— Так вот, этот самый Штольц…
— Фон Штольц! — обиженно подскочил толстяк.
— …этот самый Штольц, — невозмутимо повторил местный светоч медицины, чем вызвал мои мысленные аплодисменты, — уверяет, что может отправить вас обратно, в тот мир, откуда, по слухам, вы прибыли. Мы здесь ерундой не занимаемся, и надеюсь, что эту животрепещущую тему вы обсудите за пределами клиники.
— Непременно! Непременно за пределами! — Толстяку очень хотелось продемонстрировать свою обиду, но дверь уже захлопнулась за удалившимся госпитальным самодержцем.
Появилась сестра, доставив простенький серый костюм, рубашку и туфли. Принесенное изрядно напоминало гуманитарный набор подержанных вещей, но я не стал привередничать: мне было не до того! Домой! Этот пузан говорит, что может отправить меня ДОМОЙ!!! Я моментально переоделся, зацепил фон Штольца под руку и вылетел из палаты.
На секунду я замер, не зная, куда идти дальше, но фон Штольд перехватил инициативу и поволок меня по направлению к лифту.
Мне так и не довелось выяснить, на каком уровне от поверхности располагалась клиника: указателей этажей не было, однако украшенная зеркалами и резными золочеными завитушками кабина лифта, скрипя и погромыхивая, спускалась все глубже и глубже, а когда она остановилась и фон Штольц открыл дверь, мы вышли прямо в суетливо спешащий людской поток.