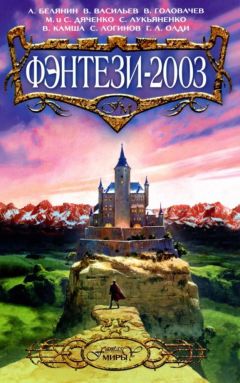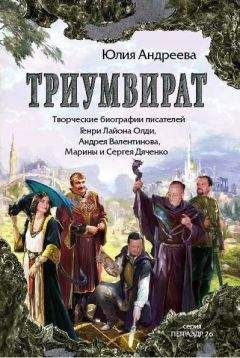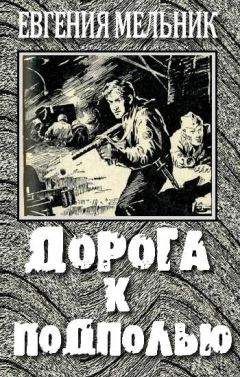И сундучок открыл. Что там было!..
Ходили его след смотреть. От стены града — как пропахано, в двух стрелищах след прервался, сплошь снежное поле, ровнина. Спрашивали градскую стражу — как вышел, откуда?
— Никак, — отвечали. — При ясном небе пронеслась метель, склубилась и вихрем осела, тут его и завидели. А метель улетела, цветом вроде пепла.
Долю в княжью казну, на церкви, родичам убитых отец раздавал в спешности, будто избавиться хотел от злата… или от расспросов. Нас едва расцеловал — губы холодные, руки ледяные, в глазах пусто. Собрал нас под вечер к себе, а у ворот люд шумел, спорил и восклицал нелепое. Челядинцы следили, чтоб поджога не было. Народ смирен, но нравом как туча — в грозу все наружу выйдет, и доброе, и самое дурное.
— Дочери мои… — сумел он сказать, а после заплакал. — Грешен перед вами — не забыть, не замолить греха…
Слово за словом, через силу, поведал он о своем пути и о зароке, данном зверю-человеку. Из-за пазухи достал цветок-камень — кажется, уголь горящий из печи, а не жжется, тяжел и руку студит.
— Не выдайте, родимые.
— Цветок один, — сказала Марья, — для одной взял, одной вез. Кому? Она пусть и служит за отцов долг. Я — значит, я, а коли другая — то другая.
Людское сердце — потемки. Свидетелей их договора со зверем-человеком не было; которая не люба — ту и назовет.
Назвал меня.
Я ревела ночь и день, и еще ночь. Подниму глаза, увижу стены, чье-нибудь лицо — и опять реветь. Между слезами — и со слезами вместе — молилась, как исступленная, в крик. И Марья, и Пелагея, и нянюшка, и даже чернавка Рада — все со мной слезы лили, а приданое собирать не забывали, как полагается.
Замуж? за кого? за нелюдя степного и заморского?..
— И замужем живут, — уговаривала Марья, — и хорошо бывает.
Хотела в колодезь кинуться, но передумала — страшно в студеной воде тонуть. Задавиться бы не дали, глаз да глаз — так стерегли, и все начитывали, как Третьяк:
— За батюшка родного, Уленька, сам Бог велел пострадать! Ты не в своей воле, он тебя родил, вот и послужи, отдай долг дочерний.
Но косу расплести я им не дала. Сама расплету, когда час придет.
Пятого дня ввечеру вывели меня под руки на двор, следом Жук и Волк несли сундуки. Стоять я не могла, на сундук села. Отец снял с пальца волосяное кольцо, надел его мне. Тихо было, и в тишине надо мной закружилась метель. Дальше я не помню.
Очнулась в хоромине без окон, низкий потолок — как небосвод. В шубе жарко, а снять ее боязно — как в чужом доме раздеваться? Но страшно или не страшно, а обычай справлять надо: я встала и поклонилась на стороны, с дрожью ожидая, как из-под стены зверь выскочит.
— Здравствуй, господин мой, на долгие лета.
Слова растаяли в беззвучии, в ответ ничего, но на стене бегучим огнем написалось — буквицы вспыхивали и тускнели, ровно кто лучиной их выводил:
«Не господин я тебе, а послушный раб. Приказывай мне, и все будет исполнено».
Писано было с огрехами; Третьяк за такую писанину не похвалил бы, но суть я поняла, и на сердце малость потеплело. Может, и зверь это, но вежество знает, и даже умалить себя готов, чтоб гостью не обидеть.
Нет, если грамоте знает — не зверь. Зверь и умен, а не смыслен, речи не ведет, тем паче буквиц не выводит. На что уж медведь лобаст, но аз-буки не скажет.
Значит — человек. С человеком сжиться всяко можно, даже, говорят, с половчанином. И все равно жуть. Буквы огненные, хоромы круглые, свет без огня… Ну как и голоса людского впредь не услышу? И церква есть ли тут?
Нахлынуло на меня, я в плач. Слышу, как буквы с шорохом пишутся, а взглянуть ни сил, ни охоты нет. Отдали замуж в чужедальнюю, незнаемую сторону!..
* * *
Когда Ульяна впервые попросила Саргиза показаться ей, я вспомнила его просьбу, обращенную ко мне, — «Царевна, дай себя увидеть». Увы, я не могла исполнить этого. Моя внешность осталась за гранью, разделяющей варианты бытия. Здесь я была не больше, чем иудейский руах — дух, то есть сила, наделенная волей и разумом. Подчиненные мне предметы, те неживые существа, которых Саргиз называл нитями, метелью или тучами царевны, ничуть не отражали моей сущности, во всяком случае — не более, чем рык отражает цвет и фактуру шерсти льва.
Саргиз полагал, что телесно я живу в северном куполе, в Доме Говорящих Стен, но он давно свыкся с тем, что меня можно слышать и говорить со мной всюду. Неудивительно — он был наполнен чувствительными, питающими и преобразующими нитями.
Я с горечью думала о том, что вскоре оставлю его. Разве могла я помыслить, что стану сожалеть о расставании, когда падающей звездой обрушилась в этот юный и темный мир, крича от муки и обиды?
Я помню все.
Я не обязана была рассказывать Саргизу о своем прошлом, но надо было, чтоб он соотнес мою судьбу с привычными ему понятиями — ему так легче. Позже я поняла, что в мире Саргиза мне есть с кем себя сравнить — миниатюрные существа, называемые пчелами, обладали иерархической структурой, сходной с обществом, из которого меня…
Нет, разумеется, общего у нас и пчел мало. Но это сходство — принципиальное; семья выдвигает из своей среды личности, способные рождать и править. Раздел семьи, связанные с этим споры, конфликты…
…Наконец, битвы.
Старая царица приметила меня раньше, чем я вошла в силу. Круг моих сторонников был невелик, а я — слишком слаба; это определило исход сражения. Старухе хватило пяти боевых накопителей, чтобы исторгнуть меня из мира.
В культуре мира Саргиза есть описательный чувственный жанр «хождение по мукам»; это близко нашим «историям отверженных», с той разницей, что мы повествуем не о наблюдаемых, а о лично пережитых страданиях. Когда-нибудь и я внесу свой вклад в этот свод печалей и терзаний. Когда вернусь. Если вернусь.
Я нетерпелива? Может быть. Каждый раз, почуяв слабину в толще смещающихся пространственных слоев, я рассчитывала прыжок, который приведет меня домой. Просто так, без какой-либо надежды, но страстно.
Не сразу я приступила к сборам в дорогу.
Я упала в области, называемой Мавераннахр, или Согд, и некоторое время стягивалась во взрывной кратер, что возник при моем падении. Тогда мне не было дела до жителей мира; я торопливо преобразовывала грунт, формировала трубки в поисках воды настроила систему самозащиты, пока не уяснила, что бояться здесь некого.
Саргиз сам пришел ко мне, влекомый любознательностью. Стремление знать — верный признак незаурядной личности; я и сама такая.
Нуждалась ли я в помощнике? Видимо, да. И обдумывать, и воплощать задуманное самой — непривычный труд. Управление метелью отнимало много времени, хотя я смогла изготовить несколько несложных устройств, запоминавших мысли и отдающих тучам приказы. Но для точных действий требовался настоящий и верный мне разум.