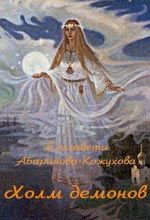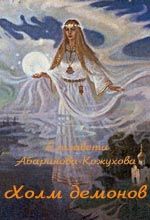Когда Василий оказался в кабинете, ему захотелось протереть глаза: то, что он там увидел, было, если так можно выразиться, фантастически обыденным. На фоне прикрепленного к стене знамени городской комсомольской организации за обширным столом, заваленным какими-то бумагами, восседал собственной персоной товарищ Иванов в темном костюме, галстуке и с алым комсомольским значком на лацкане пиджака. Словом, Дубову показалось, что он и впрямь возвратился в прошлое.
Правда, мысленно протерев глаза, Дубов увидел, что это не совсем прошлое, а скорее что-то вроде музейной реконструкции: знамя несколько обветшало, бумаги чуть пожелтели, костюм пообтрепался, да и сам Саша Иванов заметно постарел и даже полысел, хотя комсомольский блеск в его глазах, тронутых еле видными морщинками, был все тот же, что в памятные перестроечные годы.
Похоже было, что товарища Иванова редко кто посещал в его музейном затишке, поэтому гостям он обрадовался:
— Здравствуйте, товарищ. И ты, Солнышко, заходи. Вы по делу, или как?
Однако, спохватившись, товарищ Иванов сменил милость на гнев:
— Да вы что себе, товарищи, позволяете? Или вы думаете, что в баню пришли?! Вот товарищ, не знаю вашего имени, хоть майку надел, а вы, Григорий Николаевич, что, считаете, что можно в комитет комсомола в одних трусах заявляться?!! Ладно, меня вы не уважаете, но проявляйте хотя бы элементарное уважение к нашему знамени!
Признав полную правоту товарища Иванова, Дубов хотел уже было устыдиться и покинуть кабинет, но Солнышко, похоже, прекрасно знал, как отвечать на подобные «наезды»:
— Александр Сергеич, я забыл вам доложить — мы с товарищем Васей только что завершили велопробег по местам комсомольской боевой славы и просто не успели переодеться. А в костюме и при галстуке, сам понимаешь, не очень-то поездишь.
— Ну ладно, объяснения принимаются, — смирился товарищ Иванов. — Излагайте, за чем пожаловали, но покороче — у меня дел по горло.
— Да-а? А мне показалось, что ты тут, как всегда, дурью маешься, — простодушно сказал Солнышко. Заметив, как правая рука товарища Иванова недвусмысленно потянулась к бронзовому бюстику Владимира Ильича, невежливый гость поспешно проговорил: — Все-все, уходим.
— Простите, Александр Сергеич, мы больше не будем, — сказал Василий уже в дверях. Товарищ Иванов лишь великодушно махнул левой рукой.
Хотя Дубов и решил до поры до времени не задумываться о том, куда и в какое время он угодил, совсем не задумываться об этом он не мог. Желая хоть сколько-то привести факты во взаимное соответствие, Дубов попытался включить логическое мышление, но главная трудность состояла в том, что ему приходилось оперировать фактами, противоречащими всякой логике. После посещения собственной могилки Дубов готов был принять как данность свою безвременную кончину в 1988 году; после визита в комитет комсомола он вынужден был признать, что товарищ Иванов не переквалифировался в порноиздатели, а остался пламенным комсомольцем — но в таком случае было совершенно неясно, почему товарищ Иванов не узнал товарища Дубова — ведь к восемьдесят восьмому году они уже были хорошо знакомы. Или Иванов узнал его, но почему-то не подал виду?
Обо всем этом Василий напряженно размышлял, пока Солнышко вел его сначала по лестницам, а потом по многочисленным коридорам явно служебного предназначения. И лишь когда они оказались в каком-то закутке возле узкой металлической лестницы с приваренными к ней перилами, Василий наконец-то пришел примерно к тем же выводам, к каким Надежда Чаликова пришла во время ночных бдений на квартире Серапионыча. И удивили его не столько сами выводы, сколько то спокойствие, с каким он эти выводы воспринял.
— Нам наверх? — как ни в чем не бывало спросил Дубов.
— Ага, на крышу, — подхватил Солнышко. — Надеюсь, ты не страдаешь страхом высоты?
— Я тоже надеюсь, — уклончиво ответил Василий, берясь за поручень.
О крыше и чердаке в Бизнес-центре ходили самые темные слухи. Здание, построенное в 50-ые годы как пристанище партийно-советско-комсомольских органов Кислоярского района Энского края, со стороны Елизаветинской выглядело как обычный пятиэтажный дом, увенчанный башенкой со шпилем, которые воспринимались как обычное для тех лет архитектурное излишество. На самом же деле проектировщики ухитрились между пятым этажом и крышей втиснуть еще по меньшей мере один полноценный этаж, совершенно незаметный со стороны улицы. Все ходы с пятого этажа наверх были наглухо перекрыты, а попасть туда можно было только через малоприметную проходную в небольшом домике, примыкавшем к зданию со двора. И лишь немногие знали, что чердак до отказа забит всякой прослушивающей аппаратурой известного ведомства, а шпиль служил «глушилкой» для «Би-би-си», «Свободы» и прочих вражеских голосов. Вскоре после падения советской власти чердак был приватизирован акционерным обществом «Кислоком-GSM», а шпиль-глушилка стал использоваться как антенна, обеспечивающая мобильную связь в городе и окрестностях. О том, что творилась на чердаке, по-прежнему никто не знал, как так он был закрыт для посторонних так же, как и в «домобильную» эпоху. Журналистам удалось разнюхать лишь то, что держателем контрольного пакета акций «Кислокома» является тот же самый офицер известного ведомства, который раньше заведовал потаенным чердаком.
Но все это было в привычном Дубову Кислоярске. А тут ему предстали обширные пустые помещения, где каждый шаг отдавался в гулкой тишине полумрака.
— Вась, как ты думаешь, что здесь лучше устроить — танцкласс или художественную студию? — вдруг спросил Солнышко.
— И то, и другое сразу, — ответил Дубов, не особо задумываясь.
— Как это?
— Очень просто. Будущие артисты балета смогут осваивать хореографическое искусство, а художники — зарисовывать их стройные ножки.
— Гениально! — захлопал в ладоши Солнышко. — И как это мы сами не додумались? Да-да, очень дельная мысль: здесь устроим танцевальный зал, а там — студию. С той стороны такие виды открываются, аж дух захватывает!
С этими словами Солнышко провел своего спутника к маленькому подслеповатому окошку, откуда открывалась изумительная панорама Кислоярска: оказалось, что это вовсе не пыльный провинциальный городок, возомнивший себя столицей маленького, но очень суверенного государства, а настоящий город-сад, перерезаемый синею лентой Кислоярки и незаметно переходящий в лес, тянущийся до самого окоёма. Что-то похожее Василий видел в Царь-Городе с крыши дома Рыжего — не доставало лишь теремов, соборов да белокаменной городской стены.