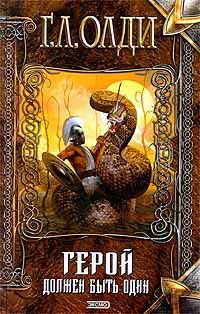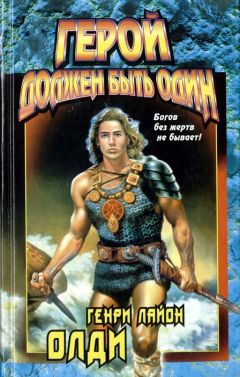— Скорее! — бросила ему спустившаяся Галинтиада.
Человек молча кивнул, и вскоре на алтаре лежал голенький ребенок — девочка, живая, но не издававшая ни звука, будто опоенная сонным настоем. Галинтиада склонилась над ней и ласково улыбнулась улыбкой матери, нагнувшейся над колыбелью. Ее сверкающие глазки не отрывались от ребенка, высохшие руки суетливо рылись в лохмотьях одежды, словно дочь Пройта страдала чесоткой — и почти неразличимые люди позади карлицы начали слабо раскачиваться из стороны в сторону, мыча что-то невнятное, что с одинаковым успехом могло сойти за колыбельную и за сдавленный вой.
— Слышу! — вырвалось у одного, того, который распеленал девочку. — Слышу Тартар… слышу, отцы мои!.. слышу…
Галинтиада даже не обернулась.
— Сын у Алкмены родился по воле великого Зевса! — забормотала она, приплясывая на месте. — Сын богоравный, могучий, какой до сих пор не рождался!.. Жертву прими, Избавитель, младенец, Герой Безымянный — жертву прими, но уже не по воле Зевеса, а тех, кто древней Громовержца… жертвуем искренне новорожденному…
— Слышу Тартар! — подвывали сзади уже оба помощника. — Слышим, отцы наши… о-о-о… недолго уже… недолго!..
Правая рука Галинтиады резко вывернулась из лохмотьев, сжимая в кулаке кремневый нож с выщербленным лезвием; почти без замаха она вонзила нож в живот даже не вскрикнувшей девочки и косо повела лезвие вверх, со слабым хрустом вспарывая грудь. Левую руку дочь Пройта, не глядя, протянула в сторону — и один из помощников, не промедлив ни мгновения, вложил в нее дымящуюся головню из очага.
Нож снова поднялся вверх, с его лезвия сорвалась капля крови — и, зашипев, упала на подставленную головню. Противоестественная судорога выгнула тело Галинтиады, она зажмурилась и запрокинула голову, вжимая острый птичий затылок в плечи.
— Принято, — страстно простонала она. — Свершилось! Дальше…
…В это время на руках у Навсикаи истошно закричал маленький Алкид.
2
Зеваки уже давно разбежались во все стороны, гоня перед собой мутную волну слухов, сплетен и пересудов, когда Амфитриона наконец впустили в гинекей.
Он остановился у ложа, где откинулась на подушки бледная измученная Алкмена, хотел было… он так и не вспомнил, чего именно хотел, уставившись на два свертка, лежавшие рядом с женой.
Два.
Два свертка.
— Близнецы, — заулыбалась Навсикая, а следом за ней и все женщины, находившиеся в гинекее. — Близнецы у тебя, герой! Ну ты и мужик — с самим Зевсом на равных! Да не мнись — иди, глянь на детей, жену поцелуй…
Амфитрион, не чуя ног под собой, послушно обошел ложе, поцеловал в щеку тихую и какую-то чужую Алкмену — и почувствовал, что губы его помимо воли расползаются в совершенно дурацкую и безумно счастливую улыбку.
Два совершенно одинаковых личика — сердитых, безбровых, еле выглядывающих из пеленок — одновременно сморщились, и двухголосое хныканье огласило гинекей.
— Алкид и… Ификл, — вслух подумал Амфитрион. — Да, так я и назову вас: Алкид и Ификл. А боги… боги пусть разбираются сами. Да, дети? Мы-то с вами разберемся, а боги пусть сами…
— Совсем ошалел на радостях, — с притворным раздражением буркнула Навсикая. — Городишь невесть что… Лучше вели кому-нибудь бежать в город и кричать, что у тебя двойня!
— Обойдутся, — отрезал Амфитрион. — Нам спешить некуда — завтра все равно узнают, так что не будем пинать судьбу. И вот что…
Он еще раз посмотрел на близнецов и наугад ткнул пальцем в того, что лежал слева от Алкмены.
— Этот похож на меня, — уверенно заявил Амфитрион. — Клянусь небом, вылитый я!
— А этот? — спросила Навсикая, указывая на второго.
— А этот — на Громовержца!
И еле удержался, чтоб не расхохотаться при виде серьезно кивающих нянек.
Сейчас Амфитрион уже напрочь забыл о странной Галинтиаде, дочери Пройта, словно ее и не существовало вовсе; ничего не знал он и о том, что на его родине в златообильных Микенах, откуда Амфитрион был изгнан родным дядей Сфенелом за убийство другого родного дяди (а заодно и тестя) ванакта[16] Электриона — что у властолюбивого Сфенела и Никиппы, дочери коварного Пелопса[17] и внучки проклятого богами Тантала, не далее как вчера вечером родился хилый и недоношенный мальчик.
Первый сын после двух дочерей.
Мальчика назовут Эврисфеем, и он, как это ни странно, выживет — что лишит Амфитриона и его потомков надежды на будущее воцарение в родных Микенах.
Нет, ничего этого Амфитрион не знал — да и узнай он о рождении Эврисфея, все равно не омрачился бы духом, ибо не был в сущности склонен к правлению городами. Рассмеялся бы, налил бы в кубок черного хиосского вина и выпил бы до дна во здравие всех детей, родившихся в эти дни.
И очень удивился бы, если бы какой-нибудь прорицатель сообщил ему, что через полвека с лишним его жене Алкмене принесут седую голову нынешнего мальчика по имени Эврисфей — и Алкмена выколет у этой страшно оскаленной головы мертвые глаза своим ткацким челноком.
Очень удивился — и не поверил бы.
А зря.
3
— Мойры!
— А я тебе говорю — Илифии!
— А я говорю — Мойры!
— Ну и дурак! Станут Мойры сидеть на пороге у какой-то Алкмены! Тоже мне…
— А вот и станут, если по приказу Геры!
— Станут-сядут… Оба вы олухи! И вовсе не Илифии, и уж тем более не Мойры (будут они Геру слушаться!) — а сестры-Фармакиды!
Третий голос… тридцать третий… триста тридцать третий голос… Шумят Фивы, ох, шумят…
— Да какая вам разница, кто сидел? Главное, что роды задержали… У Никиппы в Микенах семимесячный родился — у-у, Танталово племя! — и ничего, а у Алкмены первенький едва вылез, а второй вообще через неделю…
— Ой, сестры! Ой, посмотрите на дурищу-то! И деткам своим покажите! Это ж не баба, это ж корыто глупости! Через неделю… Ты ж сама рожала, толстая, должна понимать, небось!
— Это я толстая? Это я-то толстая?! Это ты толстая!
Дерутся женщины в Фивах… дерутся, спорят, друг дружку перекрикивают. Откуда им знать, когда у Алкида брат-близнец Ификл родился? — если про первенца слушок сразу побежал, чуть ли не с первым криком младенческим, а про второго-то сплетня припоздала, на целый день, почитай, задержалась… и то — пока сказали, пока услышали, пока поверили да проверили…
Шумят Фивы, ох, шумят… Спят братья-близнецы Алкид с Ификлом, знать ничего не знают, ведать не ведают, грудь сосут, пузыри пускают, не слушают голосов глупых, и того голоса визгливого не слышат, что и другими не больно-то услышан был!