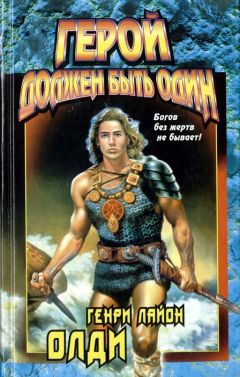Но ее уже никто не слушал.
5
Выйдя из дома Амфитриона, Тиресий неторопливо двинулся по улице, сжимая правой ладонью мускулистое плечо поводыря и легонько постукивая о дорогу концом посоха, зажатого в левой.
Он давно привык к своей слепоте, сжился с ней, даже полюбил в некоторой степени этот мрак, позволяющий спокойно рассуждать и делать выводы; он иногда чувствовал себя чистым духом, по воле случая заключенным в горе жирной плоти – и поэтому зачастую бывал неопрятен и рассеян.
Единственное, к чему Тиресий никогда не мог привыкнуть – это к дару прозрения.
Предсказывать людям будущее, основываясь на обычном знании людских чаяний и стремлений, на умении складывать крохи обыденного в монолит понимания – о, это было для Тиресия несложно! Он слушал, запоминал, сопоставлял – и предсказывал, причем делал это не туманно и двусмысленно, подобно дельфийскому оракулу, а просто и однозначно, за что Тиресия любили правители… и, наверное, любили боги.
За это – любили.
Зато когда темная и ненавистная волна прозрения захлестывала его с головой, когда он тонул в будущем, захлебываясь его горькой мякотью, и потом его рвало остатками судьбы – тогда Тиресий зачастую сам не понимал смысла своих ответов, или понимал слишком поздно, что было мучительно.
Но в эти минуты он не мог молчать.
…Впрочем, сегодня он и сказать-то толком ничего не смог. Потому что уже на пороге, перед самым уходом, когда в спину что-то бормотал старушечий голосок, Тиресия оглушил рокот той преисподней, которую Тиресий звал Тартаром, и рокот этот странным образом переплетался со звенящим гулом тех высей, которые Тиресий звал Олимпом… два голоса смешивались, закручивались спиралью, превращаясь в пурпурно-золотистый кокон (Тиресий не был слепым от рождения, и память его умела видеть), и там, в двухцветной глубине, ворочалось двухтелое существо с одним детским лицом, излучая поток силы без конца и предела, дикой первозданной мощи вне добра и зла, вне разума и безумия, вне…
Тиресий остановился, крепко сжав плечо раба-поводыря и уставясь перед собой незрячими глазами.
В конце улицы, упирающейся в базар, приплясывал тощий и грязный оборванец в драной хламиде с капюшоном. В руках нищий держал двух дохлых змей, пугая ими прохожих, которые сторонились оборванца и ругались вполголоса. Наконец нищий умудрился засунуть одну змею в корзину какой-то женщины – причем сделал это настолько умело, что сама женщина ничего не заметила – после чего угомонился и подошел к Тиресию.
– У-тю-тю! – нищий вытянул губы трубочкой и сунул голову оставшейся змеи в лицо слепому, ловко увернувшись при этом от кулака раба-поводыря. – Угощайся старичок!
– Кого ты хочешь обмануть, Гермий? – тихо спросил Тиресий, жестом отпуская поводыря. – Меня, сына нимфы Харикло? Обманывай зрячих, Лукавый, лги закосневшим в зрячей слепоте!
– Зачем мне обманывать тебя, старичок? – рассмеялся нищий, гримасничая. – Ты и сам себя обманешь, без меня!
– А вот зачем, – Тиресий протянул руку и коснулся головы дохлой змеи.
– О-о, – почти сразу добавил слепец. – У тебя хорошая игрушка, Гермий-Киллений![18] Эти змеи дают человеку вдохнуть – а выдохнуть он уже не успевает… Я не удивлюсь, если узнаю, что эти замечательные змеи стали твоей игрушкой на половине их пути в дом Амфитриона! А дальше поползли уже совсем другие…
– Если узнаешь? – изумился нищий. – А разве ты не знаешь обо всем на свете, мудрый Тиресий?
– Нет, – спокойно ответил слепец. – Я не знаю обо всем на свете. Но и ты не всеведущ, Лукавый – и в этом мы равны. Когда я вернусь домой – я принесу тебе жертву. Прощай.
И двинулся по улице, ощупывая дорогу концом посоха. Вскоре его догнал раб, ожидавший в стороне, и привычно подставил плечо под ладонь Тиресия.
Нищий долго смотрел им вслед.
– Твою душу я отведу в Аид с особым почетом, – пробормотал он, швыряя дохлую змею в спину проходившему мимо ремесленнику. – Впрочем, не думаю, что это случится скоро…
И побежал прочь, спасаясь от разгневанного прохожего.
6
– …Мама! Иди посмотри! Ма-а-а-ма!..
Это кричит маленький Алкид трех с половиной лет от роду, воздвигающий из мокрого песка некое сооружение, столь же грандиозное, сколь и бестолковое. Он кричит звонко и чуть-чуть сердито, потому что мама все никак не подходит; курчавые волосы падают на его выпуклый лоб, все тело с головы до ног перемазано грязью, как у борца в палестре[19] после долгой схватки, и нижнюю губу он закусывает точно так же, как это делает Амфитрион, когда чем-то увлечен.
А может, это вовсе не Алкид, а его брат Ификл.
– Ку-утя! Кушай, кутя, кушай…
Это бормочет маленький Ификл трех с половиной лет от роду. Он сует палец в пасть недавно родившемуся щенку их гончей суки Прокриды, еще полуслепому и совершенно не умеющему лаять и понимать, что с ним играются. Щенок сосет палец, и Ификл заливисто смеется, а потом зачерпывает свободной рукой пригоршню грязи, обмазывает себя ею и закусывает нижнюю губу точно так же, как это делает Амфитрион, когда чем-то увлечен.
А может, это вовсе не Ификл, а его брат Алкид.
Все может быть…
Что вечно раздражает нянек и веселит челядь, выясняющих – кто есть кто? У кого болит животик – у Алкида или у Ификла? Животик в конце концов болит у обоих, и оба не желают пить горький лечебный настой, плюясь и вопя на весь дом. Кто разорвал любимый мамин пеплос, подаренный ей тетей Навсикаей – Ификл или Алкид? Пеплос разорвали оба, и никто из нянек не понимает, как можно было успеть столь основательно изорвать прочное на вид полотно, оставшись без присмотра всего на минутку?!
Пробовали привязывать к руке Алкида витой шнурочек – но это спасало примерно до памятной истории со змеями. Потом же шнурочек неизменно слетал и терялся, или вовсе перекочевывал к Ификлу, а то и оба брата гордо щеголяли одинаковыми шнурками, приводя нянек в полное недоумение.
Так что в итоге противное лекарство пили оба, и одежда шилась сразу на двоих (когда только снашивать успевают, неугомонные!), и по мягкому месту влетало поровну; и уж тем более редкая нянька могла потрепать по голове одного сорванца, чтобы тут же не взъерошить волосы второму – упаси Зевс, не того лаской обделила!
Только Алкмена безошибочно различала близнецов – так на то она и мать.
И любая нянька, любой раб или вольноотпущенник, всякий свободный человек, зашедший в дом Амфитриона – короче, все считали само собой разумеющимся то, что чуть-чуть больше материнской любви перепадало маленькому Алкиду. Совсем капельку, кроху, мелочь…
Еще бы – оба свои, родные, но старшенький-то сын САМОГО!