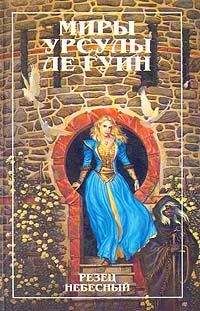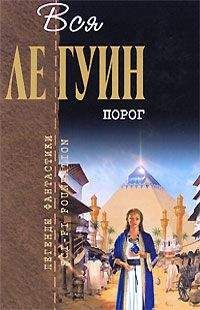— он не столько лечит меня, сколько использует.
— Если Хабер ведет опыты на людях с благими, так сказать, намерениями, то примет свою судьбу как должное, без стенаний. А если оборудование зарегистрировано и одобрено, то ничто ему и не угрожает. У меня уже было два схожих случая. По просьбе ЗОБ-департамента я наблюдала в медцентре иллюзион новичка-гипнотизера — явное надувательство, — а также вывела на чистую воду одного типа из института «Лесная дубрава», который внушал людям агорафобию, чтобы те в самой жуткой давке чувствовали себя как рыба в воде. Мы пришли к выводу, что в таких действиях кроется элемент нарушения закона о промывке мозгов. В общем, я без труда смогу получить ордер ЗОБ-контроля на проверку этой — как бишь там ее? — техники доктора Хабера. Вы при этом, кстати, останетесь за рамками — доктор и не узнает, что я ваш адвокат. Сделаем вид, будто вообще незнакомы. Я заявлюсь как официально аккредитованный наблюдатель АСДС note 4, приглашенный ЗОБ-контролем. Тогда, если дело у нас не выгорит, ваши с доктором отношения ничуть не пострадают. Это единственный приемлемый способ поприсутствовать на одном из ваших сеансов.
— Я, кстати, единственный пациент, которого доктор Хабер пользует сейчас своим Аугментором — он сам так говорил. Аппарат еще в стадии доработки.
— Стало быть, независимо от намерений, это явный эксперимент на человеке. Хорошо. Посмотрим, что мне удастся сделать. Должна предупредить
— одни формальности займут никак не меньше недели.
Орр выглядел явно разочарованным.
— Постарайтесь не стереть меня из реальности вашими снами за предстоящую неделю, мистер Орр, — посоветовала Лелаш, отчетливо расслышав в собственном голосе хитиновое клацанье жвал.
— Разве что нечаянно, — ответил тот с искренней благодарностью — да нет. Господи Боже мой, в его голосе звучала не просто благодарность — нескрываемая приязнь! Орр явно симпатизировал ей!
Бедный маленький псих, сидящий чуть ли не на игле, похоже, втрескался в нее по уши. Но и ее саму это почему-то не оставило равнодушной. Их руки встретились на мгновение — шоколадная Лелаш и молочно-белая Орра, — прямо как на том чертовом значке из детства, из бисерной коробки ее матери, значке, отштампованном одной из великого множества примирительных комиссий середины прошлого, двадцатого века: черно-белое рукопожатие — «Дружба навек». О Господи!
Лишь утратив Великое Дао, обретаем мы подлинные праведность и милосердие.
«Лао-цзы», XVIII
Весело улыбаясь, доктор Хабер стремительно взлетел по ступенькам Орегонского онейрологического института и, толкнув высокие двери из поляризованного стекла, шагнул в сумерки холла, где шелестели спасительные кондиционеры. Только двадцать четвертое марта, а какое уже пекло! Зато здесь, внутри — прохладно, стерильно, безмятежно. Мраморный пол, разумная меблировка, сияющая хромом административная стойка, вышколенный вахтер.
— Здравия желаю, господин директор!
Из глубины холла навстречу выскочил Этвуд, коллега, только что сменившийся с ночного дежурства, весь взъерошенный, глаза воспалены после многочасового бдения за ЭЭГ-экранами. Хотя теперь компьютеры и переняли значительную часть нагрузки по присмотру за спящими пациентами, еще нередко возникала необходимость вмешательства непрограммируемого человеческого сознания.
— Утречко-то какое, шеф, а! — не слишком бодро бормотнул Этвуд, семеня следом.
Куда живее и сердечнее в личной приемной доктора Хабера прозвучало приветствие мисс Крауч, секретарши:
— Доброе утро, док!
Нет, не зря доктор Хабер, получив в прошлом году новое назначение, захватил с собой Пенни Крауч, незаменимую свою тень. Умная и преданная, она вполне соответствовала своему месту, служа надежным форпостом на подходах к самому главному начальнику, где как раз и требовались все ее сообразительность и лояльность.
Доктор прошел в святая святых — в свой кабинет.
Швырнув кейс и папки на кушетку, Хабер первым делом с наслаждением потянулся, размял плечи и спину, а затем, как уже повелось, подошел к окну. Кабинет располагался в самом углу здания, и два огромных окна открывали великолепный вид сразу на восток и на север: исчерканный темными поперечинами мостов голубой изгиб Вильяметты у самого подножия холмов, по берегам бесчисленные городские шпили, тонущие в легкой весенней дымке, предместья, теряющиеся в далеких холмах, и высоко надо всем этим — горы, седые и незыблемые вершины. Маунт-Худ, огромный даже на таком удалении, служил как бы пастбищем для бесчисленных облачных барашков, чуть севернее обломанным клыком незримого чудища вздымался пик Адаме, за ним темнел пологий правильный конус Святой Елены, над долгим северным отрогом которого в свою очередь возносился к облакам самый главный — Маунт-Рейнир, словно полотняная юбка скрытой за облаками мамаши, скликающей разгулявшихся деток.
Этот потрясающий вид никогда не приедался, Хабер черпал в нем вдохновение и свежие силы. Кроме того, только сегодня после долгой дождливой недели подскочил барометр, и вновь выглянуло весеннее солнце, поднимая над рекой белесый туман. Прочитавший за свою жизнь тысячи и тысячи энцефалограмм, доктор прекрасно сознавал связь между атмосферным давлением и мозговыми ритмами — и в себе самом он тоже почти физически ощущал сейчас прилив бодрости, психосоматические перемены, навеянные сухим и теплым ветерком.
«Придерживаться этой линии, совершенствовать климат и в дальнейшем», — отметил он мельком, почти машинально. Обычно Хабер умел одновременно обдумывать несколько разных дел, но эта мысленная помета как-то не укладывалась ни на один из уровней его мышления. Она оказалась столь мимолетной, что, когда доктор сгреб со стола диктофон, чтобы наговорить очередную казенную эпистолу, уже бесследно канула в Лету.
Переписка с официальными инстанциями была в тягость и отнимала чертову уйму времени, но куда денешься — ведь он добровольно взвалил эту ношу на свои пусть и нехилые плечи. И Хабер не ныл, не уклонялся, научным поиском занимаясь в результате чуть ли не урывками. Максимум пять-шесть часов в неделю мог посвятить он теперь собственной лаборатории, поэтому полностью вел только одного пациента, а еще нескольких, закрепленных за ассистентами, курировал.
Однако за последнего своего пациента Хабер держался крепко. В конце концов, прежде всего он ведь психиатр. И в научный поиск в области онейрологии доктор тоже пустился в первую очередь ради исцеления конкретных людей. Не приемля разглагольствований о башне из слоновой кости, он не признавал науку ради науки — какой вообще толк в исследованиях, если они не приносят никакой практической пользы? Применимость — вот главный критерий, пробный камень любого научного результата. И последний числившийся за ним пациент служил своеобразным напоминанием об этом, помогал сохранить связь между абстракцией на экране и нарушенной психикой конкретного пациента. Для доктора нет ничего важнее собственно больного. И значимость врача как личности определяется исключительно мерой его конкретного влияния на людей, то бишь прямой и обратной связью с окружающим миром. Нравственность теряет весь и всяческий смысл, если не трактовать ее как пользу, приносимую людям, как самореализацию каждого на благо всех.