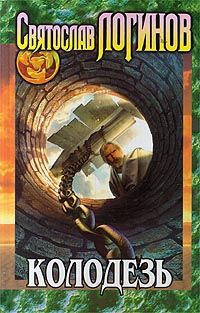Первосвященный придвинул кубок тончайшего венецианского стекла и наклонил над ним амфору.
В дверь неделикатно громко постучали, на пороге объявился протодьякон Мелетий, управляющий патриаршим подворьем.
— Там!… — задыхаясь выговорил он. — Там пришёл янычар. Требует ваше святейшество!
Холодом продрало патриарха Парфения от этих слов. Нет для православного пастыря горше муки, чем в собственной убогой келье ежеминутно ждать, что вспомнят о нём власти и вновь потребуют чего-то — скорей всего денег, которых и без того не хватает, а быть может, и самой жизни. Но в любом случае беды начинаются с того, что на монастырском подворье объявляется янычар, посланный великим везиром, или румелийским агой, а то и самим султаном.
— 3-зови… — через силу выдавил кир Парфений.
Ждать во дворе Семёну пришлось недолго. Дьякон, к которому он обратился с просьбишкой, объявился назад через минуту и пригласил Семёна в палаты. Другого слова, чтобы назвать священнический дом, у Семёна не нашлось. Куда до этакой роскоши хатёнке попа Никанора, да хоть бы и богатой усадьбе Фархад-аги. Убогое снаружи строение внутри поражало взгляд. Полы мраморные, двери точёные, на стенах бархаты. В тёмных комнатах свечи горят в серебряных подсвечниках. Дворец, да и только… царский терем! А он сюда припёрся за наставлением в вере и отпущением грехов.
Семёна ввели в полутёмную комнату, где в деревянном кресле с прямой спинкой восседал священник. Вместо иерейского облачения на нём была монашеская ряса, но тоже не простая, а лилового шёлка, радующего глаз и тело.
На этот раз Семён не повторил ошибки, сразу заговорил по-турецки:
— Прошу прощения, эта, но у меня не было иного времени, чтобы обратиться к вам. Я не турок, я славянин, из России. Турки взяли меня в своё войско, насильно обрезали, но я остался православным…
Кир Парфений молча слушал излияния опасного гостя. Значит, это не посланец султана… Ну конечно, посланец должен быть в ранге куллукчи и носить парчовый пояс. В таком случае, дело обстоит гораздо опаснее, нежели новое повеление властей. Это провокация. Знать бы, кем подослан настырный янычар…
— …нет больше силы терпеть мусульманство. Благословите, отче, на подвиг. Лучше мученическая смерть, чем такая жизнь. Даже среди бывших еретиков есть примеры для подражания, не признающие Магомета, а из православных ни один не осмелился восстать. Благословите на подвиг, отче, горю послужить вере.
«…если это человек шейхульислама, — спешно соображал Парфений, — то за попытку совращения в христианство обрезанного янычара меня наверняка сместят с престола, а возможно, будет и нечто худшее. Гнать немедля! Но если это человек Павликия, — антифоном пришла другая мысль, — то жди бед на соборе».
— …со следующей пятницы каждому велено вслух непригожую молитву читать, а я не хочу. Грешен, до сих пор притворялся, будто Аллаха чту, но более притворства не желаю… — Семён говорил, исповедуясь скорее самому себе, нежели разодетому в шелка монаху. Не виделось в монахе святости, земным и грешным пахло от него — не миром и ладаном, а киимоном и сладким вином.
«…гнать! — твёрдо решил Парфений. — А если ошибся, то на соборе скажу, будто испугался гонений не на себя, а на всю церковь. Мол, если янычар обратно в церковное лоно принимать, то недолго дождаться и церковных погромов… А вдруг, — пришло в голову новое соображение, — всё, что рассказывает незваный гость, — правда? Тогда тем более — гнать! Одно дело, когда везир задумал получить с церкви новые подношения, совсем иное, ежели ему донесут, что в одном из булуков произошли смутительные дела».
— Не вовремя ты пришёл, сын мой, — произнёс кир Парфений по-болгарски, желая проверить, вправду ли перед ним славянин. Так ли, этак, но болгарскую речь все славяне понимают. — Служба окончена, я устал… К тому же такие решения трудно принять, не вознеся молитвы и не обдумавши всё как следует. Приходи завтра с утра, я велю принять тебя и дам ответ твоим сомнениям.
— Кто ж меня завтра из казармы выпустит? — воскликнул Семён. — Я и сегодня-то чудом здесь очутился!
— Я ли виновен, что ты явился в неуказанный час? — вопросом на вопрос ответил монах. — Ступай и приходи, когда велено.
— Эх! — Семён не сумел сдержать досады. — Нерачительный ты пастырь, отче. Добрый пастух, потеряв одну из овец своих, оставляет прочее стадо в пустыне, идёт искать пропавшую и приносит домой на плечах. Заботливый хозяин и в день субботний отвязывает вола и ведёт поить. А ты не даёшь мне воды утешения. Что скажешь своему епископу, когда спросит, как служил господу и пас вверившихся тебе?
«Паисий Лигарид доносит, что на Москве никто писания не знает и молиться не умеет, а этот искуситель притчами говорит, — мельком подумал патриарх. — Хотя Лигариду веры немного, старый лис перед каждым хвостом метёт. А вот туркам такого книжника взять негде. Значит, это человек Павликия или и впрямь послушник из московских монастырей. Только зачем он притворяется, будто не понимает, куда попал?»
— Мой епископ — царь небесный, перед которым все ответ держать будем, — произнёс Парфений больше для того, чтобы протянуть время.
— Но и патриарх над каждым священником благочинного поставил, — напомнил Семён.
«Неужто и впрямь не знает, с кем говорит?» — Парфений выпрямился в кресле и спросил:
— А кто, по-твоему, поставлен над патриархом?
Секунду Семён стоял неподвижно и, поняв наконец, кто перед ним, грянулся на землю, ударив лбом в мозаичный пол.
— Ваше преосвященство! Помилуйте! Не узнал… примеры для подражания, не признающие Магомета, а из православных ни один не осмелился восстать. Благословите на подвиг, отче, горю послужить вере.
— Встань, чадо, — тихо произнёс монах, — и не печалься о своём проступке. Можно ли мне негодовать, что не узнан тобой, когда сам спаситель, явившийся людям, остался неузнанным и был распят? Теперь я вижу, что ты и впрямь тот, кем назвался, и действительно ищешь истины. Я, недостойный иерей, постараюсь помочь тебе и разрешить твои сомнения.
Патриарх вздохнул невольно и по многолетней привычке возвёл глаза горе, как бы показывая, что вздох его не от собственной немощи и печалей, а от сердца, сокрушенного людской тщетой и церковным неустройством. Надо же, сколь неудобный казус приключился! Такого и злейший враг не выдумает. Ведь этот славянин и впрямь может восхотеть мученического венца… Через сотню лет подобные вещи, глядишь, и послужат вящей славе церковной… А ныне? Довлеет дневи злоба его, пастырю духовному думать надлежит не только о духовном, но и о делах вполне мирских. А дела творятся недобрые. Трижды сгоняли патриарха Парфения с церковного престола, и сейчас злые умышленники сильны как никогда. Если этот янычар всё-таки подослан Павликием…