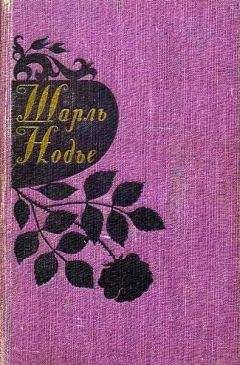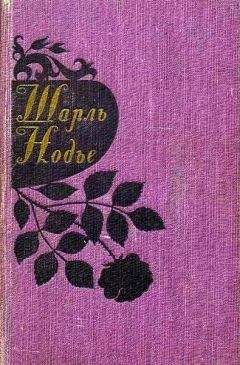Представьте себе, как рассердился Трильби, как он встревожился и испугался, когда Джанни, сидя у очага, стала рассказывать мужу о соблазнах лукавого эльфа. Горящие поленья разбрасывали белое пламя, которое плясало перед ними, не касаясь их, угли сверкали яркими искрами, а эльф катался в пылающей золе так, что она крутилась вокруг него горячим вихрем.
— Ладно же, — сказал рыбак, — сегодня вечером я встретил старого Рональда, столетнего монаха из Бальвы; он свободно читает церковные книги и не простил аргайльским эльфам того, что они в прошлом году натворили на монастырском дворе. Он один может избавить нас от этого проказника Трильби и загнать его в скалы Инисфайля, откуда к нам приходят эти злые духи.
Еще не рассвело, когда отшельника призвали в хижину Дугала. Все время, пока солнце освещало горизонт, он провел в размышлениях и молитвах, целуя святые реликвии и перелистывая требник и клавикул.[3] Потом, когда уже совсем спустилась ночь и духи, рассеянные в пространстве, вернулись в свои одинокие жилища, он встал на колени перед горящим очагом, бросил в него несколько веточек освященного остролиста, которые с треском запылали, внимательно прислушался к меланхолическому пению сверчка, предчувствовавшего потерю своего друга, и узнал Трильби по его вздохам. Джанни только что вошла в хижину.
Тогда старый монах встал и грозным голосом трижды произнес имя Трильби.
— Заклинаю тебя, — сказал он ему, — силой, данною мне моим саном, выйти из хижины рыбака Дугала, когда я в третий раз пропою молитву пресвятой деве. Так как ты, Трильби, до сих пор никогда еще не совершал тяжких проступков и даже слыл в Аргайле духом беззлобным; так как мне известно из тайных книг Соломона, знанием которых особенно славится наш Бальвский монастырь, что ты принадлежишь к таинственному роду, чья будущая судьба еще не начертана непреложно, и тайна твоего спасения или проклятия еще скрыта в промысле господнем, я не стану выносить тебе более суровый приговор. Но помни, Трильби, что я заклинаю тебя силою, данною мне моим саном, выйти из хижины рыбака Дугала, когда я в третий раз пропою молитву пресвятой деве!
И старый монах спел в первый раз, и ему вторили Дугал и Джанни, чье сердце затрепетало в мучительном волнении. Она жалела уже о том, что рассказала мужу о робкой любви эльфа, а теперь, когда изгоняли привычного обитателя очага, она поняла, что была привязана к нему больше, чем ей казалось до сих пор.
Старый монах вновь трижды повторил имя Трильби.
— Заклинаю тебя, — сказал он ему, — выйти из хижины рыбака Дугала, а чтобы ты не надеялся увильнуть, исказив смысл моих слов, — ведь я не со вчерашнего дня знаю ваше лукавство, — объявляю тебе, что этот приговор непреложен вовеки…
— Увы, — прошептала Джанни.
— Если только, — продолжал старый монах, — Джанни не позволит тебе вернуться.
Внимание Джанни удвоилось.
— И сам Дугал не позовет тебя сюда.
— Увы! — повторила Джанни.
— И помни, Трильби, что я заклинаю тебя силой, данною мне святым причастием, уйти из хижины рыбака Дугала, когда я еще два раза пропою молитву пресвятой деве.
И старый монах пропел во второй раз, и ему вторили Дугал и Джанни, которая произносила ответные слова чуть слышно, опустив голову, полузакрыв черными кудрями свое лицо, потому что сердце ее теснили подавленные рыдания, а сдерживаемые слезы туманили глаза. «Трильби не из проклятого рода, — думала она, — сам монах только что признал это; он любил меня так же невинно, как мой барашек, он не мог жить без меня. Что станет с ним, если его лишат единственного счастья, которым он наслаждался по вечерам? Разве уж это так дурно, если в сумерки бедный Трильби играл моим веретеном, когда, засыпая, я роняла его на пол, или катался в шерсти, которой я перед тем касалась руками, и покрывал ее поцелуями».
Но старый монах, еще трижды назвав имя Трильби, снова в том же порядке произнес те же слова.
— Заклинаю тебя, — сказал он, — силой, данною мне моим саном, уйти из хижины рыбака Дугала, когда я еще раз пропою молитву пресвятой деве, и запрещаю тебе туда возвращаться, если только не будут выполнены те условия, которые я сейчас назначил.
Джанни закрыла глаза рукой.
— И знай: если ты не покоришься, я накажу тебя так, что ужаснутся все тебе подобные! Я заключу тебя на тысячу лет, непослушный и злокозненный дух, в ствол сучковатой и крепкой березы на кладбище!
— Несчастный Трильби! — проговорила Джанни.
— Клянусь в том моим великим богом, — продолжал монах, — и так оно и будет.
И он спел в третий раз, и Дугал вторил ему. Джанни молчала. Она опустилась на каменный выступ очага, а монах и Дугал приписали это волнению, естественно вызванному такой внушительной церемонией. Ответные слова прозвучали в последний раз; пламя в очаге побледнело; голубой огонек пробежал по потухшим углям и исчез. В трубе раздался протяжный крик. Эльфа больше не было.
— Где Трильби? — спросила Джанни, приходя в себя.
— Улетел! — с гордостью ответил монах.
— Улетел! — воскликнула она с таким выражением, в котором ему послышались восхищение и радость. Священные книги Соломона не открыли ему этой тайны.
Едва лишь Трильби скрылся за порог хижины Дугала, Джанни с горечью почувствовала, что с его исчезновением домик совсем опустел. Никто уже не слушал песен, которые она распевала по вечерам за работой, и она, уверенная в том, что лишь бесчувственным стенам приносит в дар свои припевы, пела теперь только по рассеянности или в те редкие минуты, когда ей думалось, что Трильби, более могущественный, чем клавикул и требник, рассеял, быть может, заклинания старого монаха и обошел суровые приказы Соломона. Тогда, устремив взор на огонь, она старалась различить среди причудливых узоров, образованных темной золой среди ослепительной груды горящих углей, те черты, которыми ее воображение наделило Трильби, но видела только расплывчатую и безжизненную тень, нарушавшую то здесь, то там этот сплошной красный блеск и исчезавшую при малейшем движении пучка сухого вереска, которым Джанни взмахивала перед очагом, чтобы раздуть огонь. Она роняла свое веретено, выпускала из рук нить, но Трильби уже не гнал веретено перед собой, как бы для того, чтобы стащить его у хозяйки, счастливый тем, что он подкатит его обратно и, как только Джанни снова возьмется за нить, поднимется по ней к ее руке, коснется ее беглым поцелуем, а затем так быстро спустится, ускользнет и исчезнет, что Джанни никогда не успеет испугаться и подосадовать на него. Боже! Как все теперь изменилось! Какие длинные стали вечера и как грустно на сердце у Джанни!