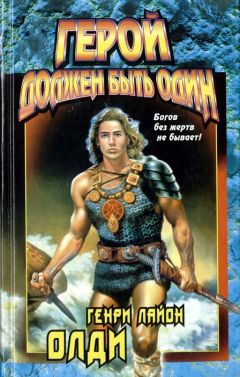– Увы, Старший, – вздыхает море. – Не отговоришь. Более того, он совершает ЭТО как раз в данный момент. Ни с кем не посоветовавшись!
– Разве он когда-нибудь с кем-то советовался? Даже когда он поднял руку на отца – он сделал это сам, а Семья лишь присоединилась…
Средний гулко вздыхает еще раз.
– Младший стал опасен, – говорит он с затаенной ненавистью, и кажется, что сейчас эта ненависть разорвет сгустившийся мрак ослепительно белой вспышкой.
– Младший стал опасен. Он зарвался! Пора сместить его – и положить конец очередным безрассудствам! У меня есть достаточная поддержка Семьи…
– Но она недостаточна, чтобы ты мог открыто выступить против Младшего.
– А ты? Ты присоединишься ко мне?!
Тьма.
Сполохи.
Тьма.
– Ты редко спускаешься ко мне, Средний, – почти беззвучно отзывается тьма. – Очень редко. Иначе ты знал бы, что гекатонхейры[5] все с большим трудом сдерживают напор из Тартара. И рано или поздно Сторукие могут не выдержать. Вот тогда я буду рад любому союзнику: хоть одному из Семьи, хоть Получеловеку, хоть Мусорщику-Одиночке – лишь бы он умел убивать навсегда. Младший – тиран и самодур, но в этот день он будет первым из бойцов. А ты, Средний, не захочешь ли ты отсидеться в своих глубинах? Не обижайся, это я так… Короче, я бы не советовал тебе слишком беспокоиться о будущей судьбе Мусорщика-Одиночки. Он смертен – и этим все сказано; во всяком случае, для меня. Беспокоиться надо о тех, что копят силы там, внизу, в Тартаре. Ну а ваши претензии на власть меня не касаются. Я к власти не рвусь, мне хватает того, что я имею. И я не стану доносить Младшему о нашем разговоре.
– Спасибо хоть на этом, – недовольно бурчит Средний. – Ох, Старший, спохватишься – да только поздно будет. Смотри не раскайся после…
– Смотрю, смотрю. И ты смотри не ушибись – я-то здесь вижу, а вот ты… Эх, предупреждал же! Тут тебе Эреб, тут землю сотрясать опасно…
* * *
Когда тяжелые шаги Среднего затихли в отдалении, Старший в сердцах сплюнул и пробормотал:
– Дурак ты, братец! Прямой, как копье, – вот и летишь, не сворачивая, куда бросили! Гера крутит тобой, как хочет, а ты до сих пор считаешь, что дело обстоит наоборот… Ох, Черногривый! Ума бы тебе хоть малую толику…
Что-то прошелестело во влажной мгле, отливающей багрянцем, – впрочем, только сейчас стало ясно, что мрак после ухода Среднего заметно поредел, превратясь в сумрак.
– Ты, Лукавый?
– Я, дядя.
– Подслушивал?
– Я? Никогда.
– Ясно. И много услышал?
– Достаточно, дядя.
– Наверху был?
– Был.
– И… что там?
– Свершилось. Только что папа вернулся в Семью. И уставшая Нюкта-Ночь скоро уйдет от Фив.
Некоторое время Старший переваривал услышанное.
– Лукавый?!
– Да, дядя?
– Знаешь что, Гермий, – слетай-ка ты к Мойрам! Выясни, что они там напряли в приданое будущему новорожденному. Изменить судьбу мы не в силах, но знать… знать ее не мешало бы. Мало ли…
– Слушаюсь, Владыка! – фальшиво выкрикнул Лукавый писклявым голоском, отчего Старший скорее всего поморщился – потому что сумрак мгновенно почернел, становясь прежним мраком.
– Шутник… Сто раз говорил тебе – ерничать будешь при посторонних. Или при отце. А со мной – не надо. Не люблю. Ладно – лети, малыш.
* * *
Гермия не было довольно долго, и Старший уже начал недоумевать, куда этот плут запропастился, – когда наконец вновь раздался шелест и слегка запыхавшийся посланец шлепнулся на берег Стикса рядом со Старшим.
– Странные дела, Владыка, – Лукавый был необычайно серьезен, и Старшему на этот раз не пришло в голову перебивать племянника. – Прилетаю я, значит, к Мойрам, спрашиваю – а те только руками разводят. Ничего, мол, нет пока, нить не спрялась, жребий не вынут и уж тем более не записан. Я, понятное дело, давай допытываться – думаю, скрывают что-то старухи! – а тут глядь, у Клото нить пошла! И не просто нить, а двойная да крученая…
– Близнецы, – прошептал Старший.
– Близнецы, – тут же согласился Лукавый. – Но чтоб нить крученая – такого и сами Мойры не помнят! Короче, раскрутили мы ее кое-как…
– Вы? – буквально подскочил Владыка.
– Мы, – с достоинством подтвердил Гермий. – Я тоже помогал! Только все зря – под конец она опять скрутилась. Так что когда два жребия вытянули – не смогли выяснить, кому какой. Впрочем, чего там выяснять, черепки-то почти одинаковые были…
– А жребий, жребий-то какой?! – чуть ли не выкрикнул Старший.
И тогда Лукавый склонился к самому уху Владыки и что-то прошептал.
Сполохи озадаченно мигнули и погасли.
…Это случилось за два часа до рассвета, в то проклятое время, когда безраздельно властвует легкокрылый Сон-Гипнос, сын многозвездной Нюкты; и часовые семивратных Фив клюют носами, всякий раз вздрагивая и озираясь по сторонам, – а Гипнос неслышно смеется и брызжет маковым настоем из сложенных чашечкой ладоней в лицо нерадивым караульщикам.
Это случилось за два часа до рассвета.
Издалека, со стороны долины Кефиса, донесся еле слышный рокот – сбивчивый, напоминающий звук осыпи камней на склонах Киферона – и понесся, приближаясь и усиливаясь, постепенно заглушая стрекот цикад, эхом отдаваясь в вершинах кипарисов и заставляя вспугнутых птиц тревожно хлопать крыльями.
– Ишь, гонит, – проворчал Телем Гундосый, старший караульщик поста у юго-восточных ворот Фив, и плотнее закутался в шерстяную накидку.
– Кто, дяденька? – робко поинтересовался сидевший рядом с Телемом юноша, почти мальчик, моргая длинными девичьими ресницами.
– Да почем я знаю – кто? – хмуро отозвался Гундосый, и юноша поежился, вслушиваясь в надвигающийся рокот, а затем ближе придвинул к себе короткое копье с листовидным жалом.
Телем покосился на юношу, хмыкнул, почесал свою проваленную переносицу и скорчил гримасу, которую с большой натяжкой можно было бы назвать ободряющей.
– Не боись, дурашка, – в голосе Телема пробились отеческие нотки. – Всякий раз за копье хвататься станешь – прикажу гнать тебя из караульщиков. Лучше слушать учись…
– Так что ж тут слушать, дяденька? – недоуменно пожал плечами юноша. – Рокочет и рокочет… ровно чудище на сотне копыт скачет.
– Уши растопырь! – прикрикнул на глупого юнца Гундосый. – Какой я тебе дяденька?! Я тебе, обалдую, господин старший караульщик! Понял? Чудища ему мерещатся! Вот как взгрею сейчас!.. Чудо стокопытное…
– Отстань от парня, Гундосый, – лениво отозвался третий часовой – коренастый бородач в кожаном панцире с редкими бронзовыми бляхами. До того бородач сидел, привалясь к стене, и молчал, бездумно вертя в пальцах сорванный стебелек; теперь же, прискучив этим занятием, решил вступить в разговор.