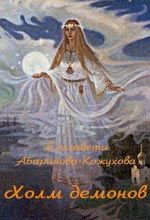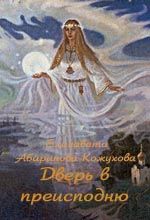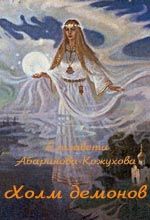— Ваше Величество, я постараюсь без поедания, но, боюсь, не получится — стишата больно уж слабые, — угодливо поклонился он в сторону Александра. И, повернувшись к Касьяну, продолжал: — Видите ли, любезнейший, в ваших стихах не чувствуется, так сказать, движения времени, движения мысли. Вам следовало бы поучиться у… — И тут странный господин принялся сыпать именами, совершенно незнакомыми Перси.
— Это наш главный мудрец, Диоген, — негромко сказал Александр и грустно добавил: — Милейший человек, только вечно его заносит во всякие заумствования.
— Диоген — это его настоящее имя? — удивился паж.
Король бросил на Перси неожиданно острый проницательный взгляд, но тут же вяло махнул рукой:
— Да нет, просто он живет в бочке, поэтому мы его так прозвали.
A Диоген разливался соловьем:
— Слыхал я об одном Великом Инквизиторе, у которого имелось весьма любопытное увлечение — встречаясь с молодыми прихожанками, он просил их поиспражняться себе на голову…
— Спасибо, мы поняли вашу мысль, — поспешно перебил его Александр. Диоген нехотя опустился на стул.
— Иоганн Вольфгангович, может быть вы, как истинный поэт, что-нибудь выскажете? — предложил король.
C места поднялся господин во фраке.
— Ваше Величество, — заговорил он с легким тевтонским акцентом, — их бин больше стихотворец, а не критик, но в стихах нашего юного друга есть что-то такое, я сказал бы, весьма удобоваримое. Я, конечно, в поэтическом смысле…
«Иоганн Вольфгангович — где-то мне встречалось это имя? — пронеслось в голове Перси. — Что-то очень знакомое…»
Не успел Иоганн Вольфгангович сесть на место, как вскочил еще один господин — в зеленом балахоне и с длинными волосами, завязанными сзади хвостиком.
— Это синьор Данте, — пояснил король, — малость грубоват, но какой одаренный!
Тем временем синьор Данте с лихвой оправдал данную ему характеристику — во всяком случае, в своей первой части:
— A я и не собираюсь его кушать, потому что не увлекаюсь дерьмоедством!..
Перси увидел, как побледнел Касьян, но тут вновь поспешно вмешался король Александр:
— Господа, уже поздно, пора ко сну. Но все же напоследок попросим нашего гостя прочесть что-нибудь еще.
Касьян Беляника развернул еще одну бумажку и с мрачной решимостью зачитал:
— Наши души прострелены, как решето
На пути отступленья — наложено вето,
А в награду за это — лишь маски шутов
И скандальная, горькая слава поэта.
Оттого, сам к себе обращаясь на вы,
Я заранее знаю фатальность исхода.
Берег тянет зеленые пальцы травы,
Но душа, словно камень, уносит под воду.
Оттого, душу продав в ломбард Сатаны,
Я лягушкой пою в примороженной луже:
Если песни мои на Земле не нужны
Значит, я в этом радостном мире не нужен…
Когда участники поэтического вечера начали расходиться из Залы, Александр жестом подозвал к себе Касьяна. Тот подошел и смущенно уставился на короля.
— Пожалуйста, не очень бери в голову, что они тут наговорили, -вздохнул Александр. — Милейшие люди, да сам знаешь — творческие личности… Да, и вот еще что — я так чувствую, что погодка разгулялась не на шутку. Так что останься здесь до утра — мои слуги укажут тебе горницу.
Касьян неловко поклонился и отошел в сторонку. A Перси, пробравшись ближе к выходу из Залы, прислушался к разговорам:
— … A хорошо вы его подкусили, синьор Данте… Да ну что вы, сударыня, это еще пустяки… Да уж, эти поэты такие вкусные… Нет, все-таки зря мы его так уж заели — стихи-то неплохие…
Так, с шутками и смешками, от которых явственно отдавало завистью и злословием, гости покидали Поэтическую Залу. И никто из них и подумать не мог, что утром в комнате, отведенной Касьяну Белянике, слуги обнаружат его тщательно обглоданные кости.
x x xВасилий Дубов проснулся на подстилке из еловых веток. Под боком, по-кошачьи фыркая, заворочался Кузька. И вскоре из-под попоны, служившей им одеялом, появилась его насупленная физиономия.
— Опять дождик моросит, — с досадой проворчал Кузька.
— Почему опять? — хмыкнул Василий. — Вчера же не было.
— Зато ночью лило, как из ведра. И молоньи, такие здоровенные, ба-бах! ба-бах! — И, укоризненно глядя на Василия, добавил: — А ты спал без задних ног.
— А что, — обеспокоился тот, — что-нибудь случилось?
— Да не. Все в порядке, — вылез из-под попоны Кузька. — Я приглядел.
Василий усмехнулся про себя, как это он приглядывал, накрывшись с головой? Но говорить ничего не стал.
Он лежал, закинув руки за голову, и с удовольствием созерцал чуть тронутый осенним багрянцем лес. Их лошадку, сонно пощипывающую травку возле дороги. Капельки воды, мерно падающие с холста, натянутого в качестве навеса. Седло, подложенное под голову, пахло кожей и потом. А лапник под ним — смолой и свежестью. И все это разбавлял неуловимый горьковатый аромат -запах осени.
А Кузька, уже откинув с кострища здоровенный пень, предусмотрительно положенный туда на ночь, раздувал оставшиеся угольки. На маленьких кривых ножках он деловито перебегал с одного места на другое. Приседал. Раздувал красные щеки. Задумчиво почесывал большие мохнатые уши — видимо, прикидывая, с какой стороны еще зайти. Ловко подсовывал сухие веточки. И морщил свой нос картофелиной, когда в него попадал едкий дым. Ну настоящий домовой. Именно такой, какими их описывают в сказках. Маленький, серьезный и очень забавный.
— Чего это ты, Василий, лыбишся, аки кот на печке? — недовольно пробормотал Кузька, продолжая бегать вокруг костра. — Али погода тебе такая по нраву?
Василий, все так же блаженно улыбаясь, пожал плечами. Какая разница, от чего хорошее настроение. Хотя нет — известно от чего: от того что ввязался в очередную историю.
— Эх-ма, — продолжал ворчать Кузька, даже и не глядя на Василия. — А как славно было за печкой, у деда с бабкой. Сухо, тепло. А тут и морось, и дух горький с болот. Так и лихоманку заполучить недолго. Эх-ма.
А костер уже разгорался, весело потрескивая сырыми ветками. И Кузька уже водружал на него закопченный чайник:
— А какой чаек бабка-то заваривала. На травах. И запах по всей избе. Эх-ма. Да на колодезной водице. Чистой как слеза и сладкой как леденец. Не то что тута — жижа болотная. С пиявками да головастиками. Рази ж это чай?.. А все гадюка Григорий! — внезапно взвился Кузька. — Привел своих упырей поганых и всю приличную нечисть согнал. И домовых, и кикимор, и леших. И пришлось уходить нам из Белой Пущи, из дома родного. Ну какая от нас зловредность? — обернулся он к Василию. И сам же отвечал: — Никакой. Ну там кикиморы над пьяненьким мужичком пошуткуют. Ну там леший девок попугает. Так ведь веселья ж для. А от нас, от домовых, вообще токмо польза одна. И пол подмести, и печку растопить. Эх-ма. А упыри-то Григория, те шутки не шутят, они, гады, с людей кровь пьют. Ну а ты чего валяешься? — неожиданно напустился он на Василия. — Вылазь да умывайся. Пора чай пить.