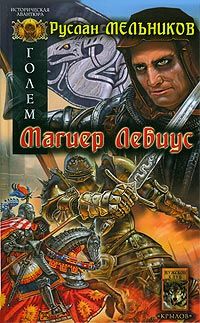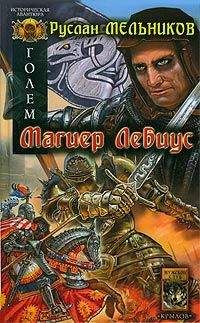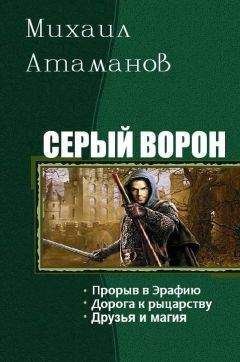Застывший стальной рыцарь, казалось, тоже смотрит на неподвижного человека, внутрь человека, в самую глубинную его суть, в душу. И под взглядом смотровой прорези голема бургграф осознал вдруг всю свою беззащитность, никчемность и обреченность. Из глаз некогда властного и жесткого Рудольфа Нидербургского текли слезы. Дрожали по-стариковски губы и руки. Дергалась щека. И левое веко.
Даже когда оруженосцы Альфреда уводили бледную, покорную, двигавшуюся, словно сомнамбула, Герду, Рудольф не смог отвести глаз от полоски непроглядного безысходного мрака, пялившегося на него из-под шлема стального истукана.
Оберландцы отбыли восвояси, так и не подступив к стенам Нидербурга. Отряд Чернокнижника уходил без опаски, неторопливо – с той невеликой скоростью, на которую была способна натужно поскрипывающая шестиколесная повозка. В повозке громоздился несокрушимый великан, вновь обращенный магией Лебиуса в безжизненную кучу металла. Там же лежали два заложника, прикованные цепями к бортам. Дипольд Славный и Герда-Без-Изъяна. И один труп – убитый знаменосец. Единственная потеря змеиного графа в этой странной и страшной стычке.
Стяг Альфреда Оберландского вез новый знаменосец. Штандарт маркграфа полоскался на встречном ветру, и геральдическая серебряная змея извивалась всем телом. Словно ползла. Уползала словно в свое логово. Надолго ли?
Погони не было.
…Долго и молча нидербуржцы собирали с залитого кровью ристалища кровавую же жатву. Порубленные тела в порубленных доспехах. Останки известнейших остландских рыцарей, которые не всегда и не сразу удавалось опознать.
А Рудольф Нидербургский все сидел в своем кресле в центре опустевших трибун. Сидел под легким расшитым пологом, как под нависшей плитой. Которая вот-вот рухнет. Раздавит… Рудольф сидел не шевелясь, будто оберландская машина смерти с окровавленным мечом в стальной руке все еще стоит перед ним.
И вглядывается бесстрастной безжалостной полоской тьмы в сокровенные глубины отчаявшегося сердца.
И перечеркивает этой темной полосой и сердце, и душу. И саму жизнь.
До наступления сумерек никто не смел потревожить бургграфа. Лишь когда полностью отгорело закатное зарево, телохранители осторожно подняли и под руки увели Рудольфа. Как беспомощного старца. Собственно, так оно и было: за эти часы управитель Нидербурга, лишившийся дочери, надежды и воли к жизни, превратился в дряхлого старика.
С ристалища он уходил в слезах.
В ту ночь Рудольф Нидербургский повесился в своей опочивальне. Старый верный слуга, последним видевший бургграфа в живых, утверждал, будто несчастный отец тронулся рассудком и говорил страшное. Слугу, впрочем, никто не слушал. Спешно созванный городской совет обсуждал, что делать дальше.
В ночном небе над опустевшим ристалищем и притихшим городом все кружил и кружил одинокий ворон.
Кляп во рту у него торчал с самого начала. Целую вечность торчал. С тех самых пор, как Дипольд очнулся. От бесконечной, резкой, пульсирующей во всем теле боли очнулся. Ужасное ощущение! Он будто не вываливался из тьмы небытия, а заново, в муках, нарождался на свет из материнской утробы.
Гейнский пфальцграф не сразу, но все же осознал себя. Пробудил, подстегнул подотставшие от примитивных чувств и инстинктов воспоминания и разум. И понял наконец, что движения сковывает вовсе не тяжесть турнирных доспехов, а крепкие ремни по всему телу и кандальная цепь на босых ногах. Что болезненные подбрасывания вверх-вниз – это не привычная скачка в седле, а тряская поездка в шестиколесной повозке змеиного графа. Что липкие красные пятна на камзоле не кровь, а… неужели вино?
И что в левый бок из-под грубой промасляной рогожи давит шипастый наплечник голема – того самого стального монстра, который давеча опрокинул на нидербургском ристалище Дипольда вместе с лошадью. Неподвижный, будто спящий, оберландский великан тоже был в путах. Сплошь в железных. Рогожу, укрывавшую его, словно огромный черный саван, туго стягивали звенящие от напряжения цепи. Цепи удерживали человекоподобную махину на одном месте, не давая ей сдвинуться ни на дюйм. В ногах голема поверх рогожи валялось мертвое тело какого-то оберландца.
Было еще одно неприятное открытие. Рядом с Дипольдом лежала юная, перепуганная вусмерть и совсем-совсем некрасивая в своем страхе девица. Смятая перепачканная одежда, грязные веревки поверх порванного платья, цепь на ногах, растрепанные волосы, зареванное лицо, кляп во рту и слюна на подбородке тоже ее не украшали. Невероятно, но именно эта непривлекательная соседка являлась дочерью бургграфа Рудольфа, той самой блистательной королевой турнира Гердой-Без-Изъяна, первой красавицей Нидербурга.
Герда, заметив его внимание, издала стон, похожий скорее на коровье мычание. Дипольд отвел взгляд от девушки. Защитить ее он сейчас все равно не мог. Поговорить – тоже. Так чего зря пялиться?
Сзади, в той стороне, где Дипольд видел собственные ноги (везут не ногами вперед – какое-никакое, а утешение!), высокий дощатый борт повозки и клонящееся к закату солнце, клубилась пыль. В пыли маячили очертания коней и всадников. Воины Альфреда Оберландского неспешно гнали захваченных на ристалище нидербургских лошадей. Лошади везли добычу: туго набитые дорожные сумки, притороченное к седлам оружие. Трофеи, увязанные и разложенные по тюкам, позвякивали и вдоль бортов повозки. Все правильно: победитель любого турнира забирает либо откуп, либо добро побежденных.
Ну, и кое-кого из побежденных этот победитель этого турнира прихватил с собой тоже. Дипольда Славного – в качестве главного трофея!
Дипольд застонал. Злобно – от унижения и отчаяния, знакомого каждому, кто когда-либо бывал в плену и в чужой воле. Яростно – от безвыходности позорного положения заложника и от собственного бессилия. Разочарованно – от неприглядного вида той, в которую едва не влюбился на ристалище. Ну и от боли, конечно, тоже застонал. Больно было, потому что невыносимо.
– А-а-а, очнулись наконец, ваша светлость господин пфальцграф!
Негромкий, скрипучий и шершавый какой-то голос донесся из ниоткуда. Говоривший не попадал в поле зрения, поскольку находился не сзади – в ногах Дипольда, а где-то спереди, за его изголовьем.
– Ох, и горазды же вы валяться без сознания! Мы уж опасались, как бы вы дух не испустили, ваша светлость. Перестарался, думали, дурной голем. Ему хоть и запрещено лишать вас жизни, но всякое, знаете ли, случается. И какой потом спрос с кучи железа? Одним словом, мы рады… – радость в словах говорившего звучала вполне искренняя, – несказанно рады тому, что вы живы и здоровы.