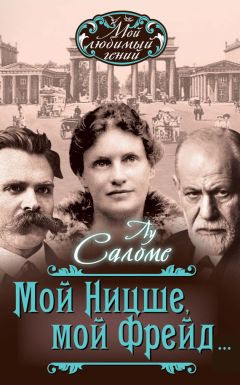За мной в столовую спустился старший веклинг, изящный и тонкий, как цапля. Он был растрепан со сна, и на щеке его был рубец от подушки; все это несколько смягчало строгую красоту его лица. Даже не взглянув на меня, он отправился бродить по комнате, заложив руки за спину.
Солнце взошло уже настолько, что слепило глаза и сияло в полировке мебели, в подсвечниках и золоченых рамах портретов. Прислонившись к шкафчику, я смотрела на веклинга, ибо на него приятно было посмотреть — как на произведение искусства. Такая красота, доходящая до совершенства, встречается чаще среди женщин, чем среди мужчин; а в нем было совершенно все — кошачья хищная грация, с которой двигалось его поджарое сильное тело, небольшая, гордо посаженная голова, тонкие, правильные и вместе с тем твердые черты лица. Он ходил совершенно бесшумно, так, как они ходят в степи, ступая на всю подошву, легким, неслышным шагом, с той самой звериной грацией, которая часто присуща нечеловеческим народам. И следя за ним взглядом, я видела их всех — худощавых, высоких, грациозных, A Karge, Воронов, в бескрайней пыльной степи, умирающих и торжествующих победу, пытавших моего мужа и погибавших от моих ударов.
Запрокинув голову, веклинг рассматривал портреты семьи Эресундов. Медленным шагом он переходил от портрета к портрету, сжимая за спиной руки в коротких светлых перчатках. Как-то странно заинтересовали его фамильные изображения Эресундов, с таким вниманием он рассматривал их. Ах, эти лица… в тяжелых позолоченных рамах, большие и маленькие, написанные красками, акварели, фотографии под стеклом, карандашные наброски. Все поколения семьи Эресундов взирали с деревянных стен на нас — южан, представителей иного мира.
Перед одним портретом он задержался особенно долго; минут пять веклинг стоял перед ним, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку лестницы и слегка наклонившись вперед.
— Могу я узнать, тцаль, — сказал он вдруг, не оборачиваясь, своим мягким мурлыкающим голосом, — почему здесь висит твой портрет?
— Прости? — искренне удивилась я. Веклинг обернулся ко мне, и тут я поняла, — Ах, да, — сказала я, — Видишь ли, это не я.
— Разве?
Я подошла и взглянула на этот пресловутый портрет. На самом деле это была сильно увеличенная цветная фотография. Я знала, конечно, что где-то здесь обязательно висит и портрет Лорель Дарринг, но особенно не приглядывалась, а сейчас, увидев его, удивилась. До сих пор я встречала лишь два варианта ее портретов: один — действительно картина, написанная маслом, и копии с нее изображают Лорель на троне Кукушкиной крепости; второй — старинная фотография, пожалуй, одна из первых цветных фотографий, сделана во дворе крепости на фоне серых крепостных стен.
Здесь Лорель Дарринг была запечатлена в комнате, залитой солнечным светом. Странно хрупкая молодая женщина в закрытом сером платье сидела в кресле, сжав подлокотники, и смотрела прямо на нас прозрачными серыми глазами. Золотистые, слегка искрящиеся, длинные кудри обрамляли тонкое бледное лицо, в беспорядке лежали на узких плечах. Лицо ее было печально и строго, тонкие губы сердито сжаты. Возле воротника-стойки сбоку приколота была маленькая серебряная брошь в виде птички.
Взглянув в эти глаза, так похожие на мои, я ощутила легкое головокружение, какую-то мгновенную дезориентацию: все равно что смотреться в зеркало. На самом деле наше сходство не заходило так далеко, к тому же здесь, на этом портрете, ей было никак не меньше тридцати (насколько я знаю, она умерла в тридцать пять, а властительницей стала в двадцать восемь), и выглядела она именно взрослой женщиной, не девчонкой, как я. Но как все-таки мы были похожи! Вот она — та, из-за которой меня все узнают здесь, легендарная властительница, спасшая Север от окончательной катастрофы во время последней северной войны. Сразу на ум приходят связь времен, ценности, передающиеся от поколения к поколению, кровь, которая не просто красная жидкость, бегущая по венам, но нечто большее, нечто, несущее в себе свидетельство древности и благородства семьи, породившей тебя…. Какая чушь иногда лезет в голову, просто поразительно.
— Так кто же это? — спросил веклинг.
Я снова взглянула на нее: какое-то высокомерие чудилось мне во взгляде моей дальней родственницы, в ее тонких сжатых губах, в слегка поднятом подбородке. "Как хорошо, что я — не ты, — сказала я мысленно, — Как хорошо, что я — это не ты. Может быть, ты и была в мои годы беспечна и весела, но кем ты стала, когда тебе сравнялось тридцать? Как хорошо, что не мне пришлось тянуть этот воз ответственности за родовую крепость, какое счастье, что судьба избавила меня от этого. Подумать только, навязывать ребенку, не спрося у него, целую крепость в наследство. Да с таким наследством лучше сразу удавиться…"
— Это, — сказала я, — Лорель Дарринг, Серая властительница, правившая Кукушкиной крепостью во время последней северной войны.
— Вы очень похожи, — заметил он почти равнодушным тоном.
Медленно мы пошли от стены к обеденному столу: веклинг — все так же заложив руки за спину, я — стиснув губы в подобие улыбки Лорель. Я думала о том, что Вороны все-таки плохие актеры. Впрочем, это была несправедливая мысль; как и все полудикие, живущие войной народы, у которых развит культ самообладания, Вороны прекрасно владели собой; просто я почувствовала, как он насторожился при упоминании имени Лорель Дарринг. Знает ведь, с кем имеет дело, мог бы контролировать свой душевный настрой. Я ведь все чувствовала. И удивлялась — какое дело Воронам до истории Севера?
— Я происхожу из той же семьи, — сказала я.
— И с кем была эта война?
— С нильфами.
Мы остановились у стола. Когда я произнесла это слово, так поразившее его в прошлый раз, он стоял ко мне вполоборота, и я не видела его лица. Он не вздрогнул, не шевельнулся при звуке этого слова, которое мне внушало странный, необъяснимый страх (то ли это кровь говорила во мне?). Ворон присел на край стола и слегка улыбнулся.
— Так вот почему ты вчера так насторожилась. Далеко отсюда эта Кукушкина крепость?
Вопрос был задан самым обыкновенным тоном, словно бы просто так, словно его совершенно не интересовал ответ на этот вопрос. Я настороженно взглянула в его лицо — оно ничего не выражало, было самым обыкновенным, слабая улыбка блуждала на губах. И своим внутренним взором я тоже ничего не видела в нем.
— Я не знаю, — сказала я, наконец.
— Я думал, ты там родилась.
— Я очень рано оттуда уехала, — сказала я. В тот момент я уже поверила, что охочусь за призраками, что веклингу на самом деле безразлично и мое происхождение, и моя крепость; только собственной мнительностью я объясняла мучившие меня сомнения. И не тогда, а несколько часов спустя, когда я припоминала этот разговор, я вдруг подумала: с чего он взял, что я там родилась? Ведь я не говорила ему об этом, а родиться я могла где угодно.