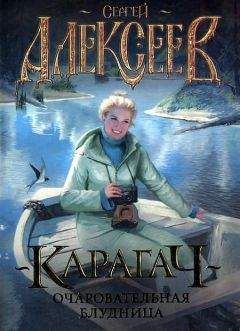Аммонала больше не было, поскольку оставшийся затонул и замылся в новообразовавшийся полукилометровый залом вместе с паузком. Заключенных угнали на лесоповал, ибо надеялись на молевой сплав и заранее готовили лес на нижних складах. Работы по очистке прекратили до следующего половодья.
Весной же пригнали еще один паузок с водостойкой взрывчаткой. На сей раз военные саперы щедро и по науке зарядили залом, и так уже поджатый напором льда, отвели подальше все, что может пострадать, и покрутили взрывную машинку. Земля вздрогнула так, что начали валиться подмытые берега, закачались прибрежные деревья, в крайних избах Усть-Карагача вылетели стекла, гигантский столб воды вперемешку с грязью и рваной древесиной взмыл к небу сажень на сто, но когда все улеглось, залом оказался на месте и разве что стал ершистым от вздыбленных карчей. Мало того, песчаные и суглинистые яры, рухнув в воду, были вынесены к залому и на нем осели, образовав теперь уже водонепроницаемую плотину, армированную лесом. Ниже весенняя река начала мелеть, а выше разлилась таким половодьем, что затопило даже высокие беломошные боры. Вода гигантским потоком переливалась через гребень, образуя невиданный в этих краях семисаженный водопад, и теперь не то что зарядить, но и подступиться к залому было невозможно.
В это же время началось резкое таяние снега в горах, уровень зеркала подскочил сразу на несколько метров, под воду ушел лесной лагпункт, много заключенных потонуло, спаслась лишь пятая часть — кто успел выскочить из барака и забраться на деревья.
Но самое главное — затопило нижние склады, где лежал подготовленный к сплаву, но еще не спущенный лес. Штабеля бревен подняло, рассыпало и повлекло вниз к образовавшейся плотине. Стоящий торчком коряжник не позволил баланам[15] преодолеть водопад, кедровый ассортимент в считаные часы набило так, что вырос над водой нерукотворный деревянный мост, от которого на десяток верст встал молевой,[16] плотный затор. Пропустить его через залом уже было невозможно, многие тысячи кубов высокосортного кедра, сосны и пихты были загублены безвозвратно. Начальник лесного лагеря, он же начальник заготовительного пункта, застрелился, когда приехали арестовывать; следом за ним повесился только что назначенный начальник лесосплава, который в общем-то был невиновен, а командир саперов, руководивший взрывными работами, выдал продукты личному составу, встал на лыжи и ночью по насту ушел в неизвестном направлении. Говорят, спрятался у кержаков, принимающих всех гонимых…
Упершись в плотину, Карагач словно размышлял несколько дней, подтапливая высокую террасу, затем выбрал неожиданное направление и двинул свои воды через песчаный материковый берег, через древнюю пустыню, где заметно прослеживался дюнный ландшафт, покрытый корабельной сосной. Причем, будучи верен характеру своему, пошел поперек: говорят, сначала между песчаными, замшелыми волнами появилась вода — долгая цепь небольших луж, которая, как ни странно, не стекала по прогибам, а накапливалась — размачивала песок, заставляя его оплывать и просаживаться. То, что совершили древние ветра, за тысячелетия нагромоздив пятисаженные валы, воды Карагача в считаные дни раскиселили, разжижили в текучий плывун, и по нему, как по проторенному следу, с горским нравом устремила река всю свою скопившуюся мощь. Новое русло пробилось всего за одну весну, причем широкое, полноводное, с высоченными ярами по обеим берегам, что бывает весьма редко на равнинных реках. В Чилим вынесло столько песка, что при впадении посередине реки образовался высокий остров. Устье отодвинулось на пятнадцать верст от села Усть-Карагач, и его стали называть Белоярская Прорва — красивее ее было не найти по всей Сибири: течение медленное, вода зеркальная, голубая, на белые берега глянешь — шапка валится. Но Карагач не изменял себе: снесенный по пути столетний сосняк малой частью уплыл в Чилим, а большей — набился в новый залом, который и перегородил прорву раз и навсегда, причем неподалеку от устья, будто выставив заслон на пути всех, кто пожелает без трудов и забот пройти водою в глубь карагачских дебрей. И если на иных заломах, даже самых долгих и высоких, можно было обтащиться низким пойменным берегом, что и делали местные жители, когда отправлялись вверх по делам ловчим и шишкобойным, то здесь из-за могучих и почти отвесных крутояров такой способ не годился.
Кержацкое заклятие все еще держало реку…
Чтобы взять древесину в недрах тайги, прорубили широкую просеку по берегу, с началом зимы намораживали ледяную дорогу и лес вывозили на специальных розвальнях с подсанками,[17] запряженных парой быков. Во время войны на лесосеки стали присылать колхозниц из далеких колхозов, поскольку мужиков забрали на фронт, и тотчас опять начались похищения девушек и женщин. Жили они на лесоучастках, разумеется, без охраны, и пропадали не только из бараков по ночам, но и днем, прямо с лесосек, чаще совсем молоденькие и парами, поскольку деревья валили по двое лучковыми пилами. Бывало, обомнут снег вокруг сосны, запилят на вершок и пропадают, оставив лучок в резе. И ни следов тебе, ни лыжни — словно по воздуху улетают! Несколько раз следствие наводили и пришли к заключению, что колхозницы попросту сбегают от непосильной трудовой повинности, ибо двух или трех потом обнаружили в своих колхозах, а винят во всем незримых и явно не существующих кержаков. Говорят, за военные годы на Карагаче бесследно исчезло более двадцати незамужних девиц, солдаток и вдов. И только одна вернулась — будто бы вырвалась от староверов и, умея хорошо бегать на лыжах, добралась до лесоучастка. По рассказам, была она в какой-то старинной одежде, на шее золотой крестик, под шалью платочек кашемировый, но видно, от страданий на голову ослабла, заговаривалась, хохотала беспричинно или плакала, жалея какого-то Дорю, за коего будто бы была отдана замуж. Ее поместили в районную больницу Усть-Карагача, лечили и осторожно допрашивали. Будто она первая и назвала имя Раи Березовской, которую знать прежде никак не могла и которую будто видела на тайном становище кержаков. Мол, у нее уже трое детей, четвертым беременна, никуда отсюда уходить не хочет и ей не советовала.
Столь странное заявление посчитали за бред душевнобольной и не поверили…
В конце войны всех женщин убрали с лесосек и пригнали пленных, соорудили лагерь, натянув колючую проволоку в одну нитку и поставив единственного часового с винтовкой: устрашенные глухоманью, глубокими снегами, морозами, бурным весенним Карагачем и непроходимыми болотами, немцы никуда не бежали. Они считали, что попали в ад, и с безропотной терпеливостью сносили наказание, с любопытством и ужасом взирая на местных жителей. Но самое интересное, когда в сорок шестом году пленных стали отпускать в Германию, десятка полтора вдруг отказались возвращаться на родину, причем толком не могли объяснить, почему. Большую часть этих добровольцев все же отправили домой, но несколько немцев осталось на лесоучастках, завели семьи, нарожали детей, и никто из них не пожалел о своем выборе.