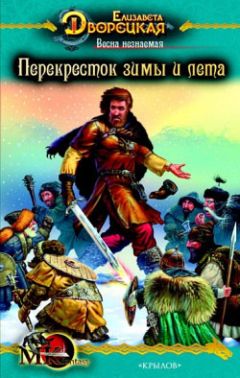— Могу я идти?
— Конечно. Разве я вас задерживаю?
Дверь она прикрыла аккуратно, но ее злость, даже не злость — но гнев, с трудом сдерживаемый, выдавали каблучки, которые цокали по паркету громко, точно хотя бы этакой мелочью Дайна желала хозяину досадить.
…а девчонку он так и не покормил.
…и имя не выбрал.
Ладно, без имени она как-нибудь да проживет, но молоко… и Райдо, широко зевнув — спать хотелось неимоверно — вытащил из гардеробного шкафа рубашку, мятую, но хотя бы чистую, пусть и пахнущую сыростью.
На кухню за молоком он спустится.
А потом поднимется на чердак, чтобы сказать:
— Слушай, я тут подумал… а давай назовем ее Хильденбранд?
Альва только фыркнет.
…а спустя два дня в доме объявится шериф.
Райдо смутно припоминал этого человека.
От него еще тогда пахло табаком, но не черным, каковой предпочитал доктор, а ядреным местным самосадом, который мололи на ручных мельницах, чтобы набить им узкие папиросы. Табак шериф носил в узорчатом кисете с бахромой. Бахрома была и на рукавах кожаной его куртки, и на голенищах высоких сапог. Вот бахрому Райдо точно помнил, а лицо — нет.
Вытянутое, сухокостное с выдающимся горбатым носом, с усами седыми, которые свисали вялыми виноградными плетями, и куцую угольно-черную бородку, на этом лице глядевшуюся чужеродной.
Бородку шериф пощипывал.
Усы — гладил широкой ладонью.
И на пальце его тускло отливало золотом кольцо.
— Двадцать пять лет вместе, — сказал он, заметив, что взгляд Райдо за это кольцо зацепился. — Самому не верится…
Он приехал отнюдь не затем, чтобы рассказать о кольце, и о супруге своей, в последние годы утратившей стройность фигуры, зато пристрастившейся к табаку, тому самому, местному, который и выращивала на грядках наравне с помидорами да кустами роз.
Но о супруге, табаке и клятых розах говорилось легче.
И Райдо не выдержал.
Он дождался, пока шериф допьет бренди — от чая он отказался — и сам задал вопрос:
— Что вам надо?
— Альва, — Йен Маккастер не стал ни лукавить, ни взгляд отводить.
— Зачем?
— Судить.
— За что?
Он пожал плечами: дескать, эту конкретную альву, может, и не за что, но вот все прочие…
— Нет, — Райдо поднял стакан, широкий и из толстого стекла, которое казалось желтым.
— Почему?
— Это неправильно.
— Неправильно, — охотно согласился Йен Маккастер, вытягивая по-журавлиному длинные тощие ноги. — Но… порой приходится искать компромисс.
Сам по себе он компромиссы ненавидел, втайне презирая себя за нынешний визит, и за разговор этот, избежать которого не выйдет, и за то, что разговор — Йен видел это — лишен смысла.
Надо бы попрощаться и уйти.
Но был собственный дом на краю города, и супруга, которая аккурат взялась молоть табачный лист, что делала всегда самолично, пусть бы к ее рукам надолго привязывался, что табачный запах, что характерная желтизна. И Йен Маккастер любил свой дом, свою жену, свою неторопливую жизнь, которую не изменила даже война.
Война прошла где-то вовне, задев его городок краем, но и этого хватило. И теперь Йен Маккастер желал, чтобы нарушенная войной жизнь вошла-таки в прежнее свое русло.
Но и не в нем одном дело.
Был мэр, который тоже прекрасно понимал ситуацию. Были советники и горожане, не желавшие смуты, и были люди, обыкновенные люди, с обыкновенными их бедами, потерями и ненавистью.
Они почти позабыли.
Смирились.
А тут альва…
Йен Маккастер бренди допил, а чего ж не допить, когда бренди хороший? И поставив пустой стакан, глянул на нового хозяина Яблоневой долины.
— Вы здесь… чужой человек. Новый…
— И не человек вовсе, — широко усмехнулся пес.
А говорили, что при смерти…
…не похоже.
Побитый, конечно, и шрамы эти, о которых супруга Йена отзывалась с притворным ужасом, хотя сама-то не видела, но ей рассказывала супруга доктора, а той в свою очередь…
…бабы…
…держали бы язык за зубами, глядишь, и обошлось бы.
…может, и обойдется?
Пес не похож на тех, кто спокойно отдаст свое. А альву он наверняка полагал своей.
— И не человек, — задумчиво повторил шериф. — Однако… вы должны понять… этот город… довольно-таки своеобразное местечко… нет, не в том плане, что от других городков отличается, но… люди тут живут… давно живут… веками… мой прадед сюда из-за гор переехал, а меня до сих пор считают чужаком. Нет, своим, но все равно чужаком. Так и называют, Йен Чужак… память у них долгая.
— И что?
Он и вправду не понимал, этот пес, а Йен не умел объяснить, у него никогда-то толком не получалось со словами управляться. И вроде бы говорил он, как иные говорят, а все ж криво выходило. И ныне, отставив опустевший стакан — а супруга вновь станет пенять, что выпимши вернулся, не потому, что и вправду злится, нет, Йен всегда меру знает, но положено ей пенять за выпивку — произнес.
— Они ей не простят.
— Чего?
— Войны. Чисток. У старухи Шеннон трое сыновей погибли, а мужа она еще когда схоронила, и осталась теперь одна. Тата Киршем потеряла мужа, а детей у нее пятеро… и муженек ее приходился Вишманам племянником, а Вишманов всем семейством в лагерь отправили… Тайворы невестки лишились, которую тоже… на четверть крови из ваших была… а ведь свадьбу только-только отыграли, хорошо, детишек нажить не успели. У Гирвоф — половина семьи в лагеря ушла, а вторая — на фронт… остались бабы одни…
Йен замолчал, позволяя псу самому додумать, но думать тот не желал. Хмыкнул, щелкнул когтем по стеклу и произнес:
— Ей ведь тоже досталось.
— Знаю. И понимаю. Только и ты пойми, что им… им нужен кто-то, кого можно обвинить, — шериф поднялся. Он был нескладен и когда-то смущался этой нескладности, что худобы, что чрезмерно длинных ног, что столь же длинных рук, которыми он размахивал, то и дело задевая мебель.
Но те времена прошли.
— Ее? — хмуро поинтересовался пес.
— А хоть бы и ее. И да, лично она ни в чем не виновата. Но она альва. А они — люди, которые только-только начали отходить от войны. Они еще ненавидят. И эта ненависть лишит их разума.
— И что вы предлагаете? — пес скрестил руки на груди, наблюдая за гостем.
— Отдайте альву. В мэрии устроят суд и…
— И приговорят к смерти.
— Допустим… — об этой части дела шериф старался не думать.
— Приговорят, — уверенно заключил пес. — И повесят. Думаю, на площади, чтобы все обиженные смогли прийти и поглазеть, как вершится справедливость.