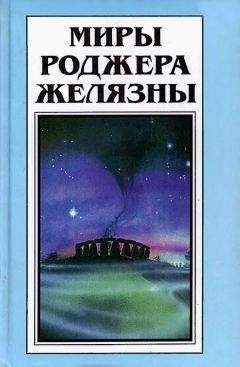Тебя воплощу, о благая Нефита…
…Нефита плачет у моря:
– Это невозможно! Этого никогда не будет! – и Принц-Который-был-Тысячей встает и протягивает руки.
В облаке, парящем перед ним, возникает прозрачный силуэт женщины. Капельки пота усеивают его лоб, и образ Нефиты становится почти отчетливым. Он делает шаг, пытается обнять ее, но руки ловят только дым, и имя Принца, грозное имя Тот, бьется как рыдание в ушах Того-Кто-был-Тысячей… Затем он стоит совсем один, и волны одного моря плещут у его ног, а волны другого – перекатываются над головой, и прозрачные звезды в небе – это рыбьи желудки, переваривающие рыбью пищу.
Глаза его увлажняются, а губы шепчут проклятья, ибо он понимает – еще немного, и Нефита сама освободит себя. Навсегда… Он зовет ее, но нет ответа, нет даже отклика эха.
Теперь он знает, что Безымянное умрет. Он бросает камень в океан, и камень не возвращается.
Скрестив руки. Принц исчезает. Отпечатки ног расплываются на песке.
Пронзительно кричат морские птицы, и неуклюжая рептилия поднимает зеленую голову над волнами, качает длинной шеей и погружается в океан.
Взгляните теперь на Цитадель Марачека, что в сердце Средних Миров…
Она мертвая. Все здесь мертвое. Сюда Принц-Который-когда-то-был-Богом приходит часто: здесь никто не мешает ему размышлять о многом.
На Марачеке нет океанов. Осталось лишь несколько ключей, солоноватых и пахнущих псиной. Солнце его – крошечная красноватая звезда, давно уставшая светить, слишком высокомерная или слишком ленивая, чтобы однажды стать новой и умереть во вспышке славы – она льет свой бессильный свет, и уродливые каменные глыбы отбрасывают синеватые тени на оранжево-серые пески, бесконечно перебираемые ветрами; звезды над Марачеком можно видеть даже в полдень, а вечером они достигают яркости неоновых ламп над открытыми всем ветрам равнинами; Марачек – плоский мир, но воздушные потоки переделывают его бесплодную поверхность дважды в день, пытаясь достичь совершенства, нагромождая и разбрасывая горы песка и все тоньше и тоньше перемалывая его зерна – так что пыль утра и сумерек весь день висит желтоватым туманом, и оттого с любой стороны Марачек кажется тусклым глазом, подернутым зыбкой пеленой; ветер превращает горы в равнины, воздвигает и разрушает скалы, бесконечно зарывая все и раскапывая… – это Марачек, опустевшая сцена славы, пышности и великолепия; но кроме всего этого на Марачеке есть нечто, всем своим видом свидетельствующее о подлинности, – Цитадель, которая будет существовать, пока существует сам Марачек, хотя пески придут и уйдут от нее много раз, прежде чем наступит час окончательного распада; она так стара, что никто не может сказать с уверенностью, была ли она вообще когда-либо построена, Цитадель – быть может, самый древний город во Вселенной, разрушавшийся и восстанавливавшийся – кто знает, сколько раз – на том же самом месте, снова и снова, – возможно, с – самого воображаемого начала великой иллюзии по имени Время; Цитадель, которая самим своим существованием свидетельствует, что некоторым вещам дано продолжаться почти бесконечно, и они, пусть даже впавшие в оскудение и упадок, существуют невзирая на все превратности – это о них написал Фрамин в «Той, что гордо застыла в Вечности»: «…И сладость распада вовек не коснется порталов твоих, ибо ты Неизменность, застывшая каплей в смоле янтаря…» – Цитадель Марачека – Карнака, изначальный город, но обитатели его лишь насекомые и рептилии, пожирающие друг друга; и только один из обитателей этого мира занят сейчас совсем другим – жаба, сидящая под опрокинутым бокалом на древнем столе в самой высокой, северо-восточной башне Марачека, – она кажется спящей в этот миг, когда больное солнце поднимается из пыли и сумерек и свет звезд слабеет. Это – Марачек.
Фрамин и Мадрак входят сюда через ворота, открытые на Блисе, и опускают свою ношу на древний стол, высеченный из единого куска странной розовой субстанции, которой не может коснуться разрушением само Время.
Здесь призраки чудовищ и Сета, вечно побеждающего их, ведут нескончаемую битву сквозь мрамор воспоминаний – сквозь стены и башни разрушаемой и восстанавливаемой Цитадели Марачека, древнейшего города во Вселенной.
Франки вправляет руку и ступню Генерала; он поворачивает его голову так, что лицо снова обращено вперед, и укрепляет его шею, чтобы она могла держать голову.
– Что с другим? – спрашивает он. Мадрак, приподняв правое веко Оакима, всматривается в его зрачок и щупает пульс.
– Шок, я полагаю. Кого-нибудь раньше выхватывали из битвы фуги?
– Кажется, нет. Мы, несомненно, открыли новый синдром – я назову его «усталость фуги» или «темпоральный шок». Можем вписывать свои имена в учебники.
– Что нам теперь с ними делать? Ты способен вернуть их к жизни?
– Вполне. Но тогда они начнут опять – и не успокоятся, пока не разрушат и этот мир.
– Хотел бы я знать, что тут осталось разрушать. Будь мы с тобой умнее, могли бы продать кучу билетов на это представление, а потом снова напустить их друг на друга.
– Презренный торговец индульгенциями! Только поп и мог такое придумать!
– Неправда! Я позаимствовал это на Блисе, там вовсю торговали и жизнью, и смертью…
– Да, конечно – там еще гвоздем программы стало напоминание, что жизнь иногда кончается. Тем не менее, мне кажется, мудрее всего было бы отправить этих двоих на разные миры, подальше отсюда, и предоставить самим себе.
– Тогда зачем ты приволок их сюда, на Марачек?
– Никого я не волок! Их засосало через дверь, как только я открыл ее. Я нацелился в это место, потому что достичь Сердца Миров легче всего, а времени у нас было в обрез.
– Тогда посоветуй, что делать дальше.
– Давай пока отдохнем здесь, а Оакима с Генералом я подержу в трансе. А еще мы можем открыть себе другую дверь и благополучно оставить их.
– Это несколько противоречит моей этике, брат.
– Не хватало, чтобы этике учил меня ты, гуманист без чувства гуманности! Ты, продающий любую потребную ложь!
– Но не могу же я действительно оставить человека умирать!
– Хорошо… Смотри-ка! Кто-то был здесь до нас и, кажется, хотел придушить жабу!
Мадрак задумчиво смотрит на бокал.
– Я слышал басни, что без воздуха жабы могут продержаться века. Интересно, сколько времени она сидит таким образом? Если бы только эта тварь была жива и могла говорить! Подумай, как много она могла видеть, какие триумфы и катастрофы!
– Не забывай, Мадрак, что я – поэт, и будь любезен приберечь такие соображения для тех, кто способен невозмутимо проглотить их. Я…