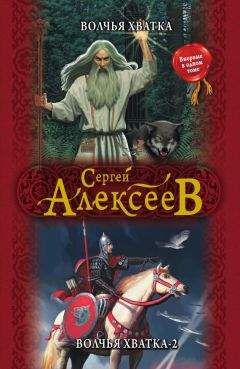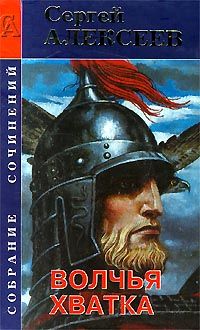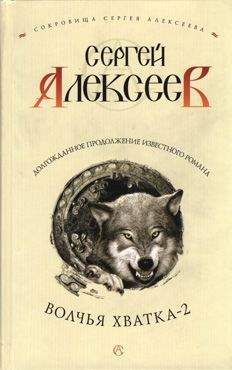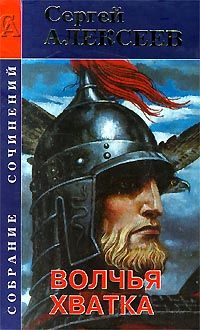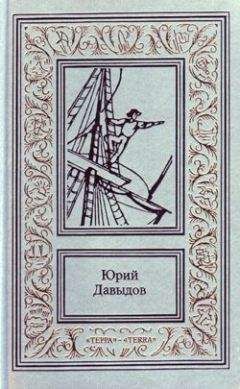Меж тем вопли, зычное кряхтенье да шум веников усилились, должно, все враз стали париться. Сейчас жди, вылетят из знойного чрева на предутренний холодок, остывать, отпыхиваться да квас пить. Судя по звукам, всё миром обходилось, игумен уж думать стал, не вообразил ли он себе злодейство боярское, не пригрезилось ли ему, что князя в бане уморить хотят. И тут в парилке вдруг стихло всё разом, такое чувство, будто уши заложило. Минута прошла — ни звука не донеслось! Тогда игумен решился, потянул на себя дверь, заглянул в баню, а там тьма кромешная, все свечи позадувало и лишь парным жаром в лицо бьёт.
—Свету дайте! Малые бояре вкупе с араксами свечи похватали да в дверной проём посветили. И обомлели от зрелища. Потом уж, когда в себя пришли и обсуждать стали, кто что увидел в первый миг, иные утверждали, будто зрели они в парной дикого зверя— матёрого волка, который немо щерился и показывал клыки. Однако игумен всю картину сразу позрел: все большие бояре на верхнем полке сгрудились, ровно овцы, сидяти вениками заслоняются, а на нижней ступенистоит чуждый, и не клыки щерит, а держит в руке кривой блестящий засапожник. За его же спиной князь со своим духовником. Вроде живые, только Митяй на карачках стоит, однако оба по–волчьи гневливые, только что рыкане издают.
—Отвечайте! — говорит им Дмитрий. — Кто замыслил меня в бане уморить? Ты, Стрешнев? А тот встрахе косится наоборотня, от его ножа взора отвести не в силах, и блеет, ровно ягнёнок:
— Помилуй, княже, не я! Это всё Фрол Тугоухов затеял!
— Видит Бог, лжёт Стрешнев! — заблажил тот. — Наговаривает! Это всё они с Ноздрёй измыслили! И меня насильно уговорили!
И началось тут перепирательство несусветное между больших бояр: от словес принялись руками толкаться, дабы свергнуть с верхнего полка виноватого, чтоб ко княжеским ногам пал. Дмитрий же посмотрел на них брезгливо и пошёл вон из парной. За ним Митяй, ровно медведь, на четвереньках покосолапил, и последним — оборотень. Но прежде чем выйти, и в самом деле зарычал по–звериному, будто зубами клацнул и засапожником пригрозил.
Князь велел заложить банную дверь на засов и только тут похвалил игумена и поклонился ему.
— Благодарствую, отче Сергий, за ясновиденье и мудрость твою! Добро, что аракса своего спрятал под полок! Не он бы, так и в самом деле уморили. Митяю–то сразу дурно сделалось, он ведь на дух банного пару не переносит, так и свял. А инок твой как выскочил! И такого страху навёл на изменников рыком своим, что и пытать не пришлось. Пожалуй, возьму я его к себе, чтоб всегда рядом держать. Покуда измену не вытравлю, мне такой дошлый защитник нужен!
Игумен речью княжеской польщён был, однако хотел признаться, что это вовсе не аракс — всего лишь чуждый, новобранец, ещё днём прибившийся к монастырю. Но повертел головой, отыскивая ражного, а того и след простыл. Когда исчез, никто не заметил, не до него было. Сергий велел сыскать, покуда Дмитрий утирался полотенцем, квасом отпаивался да обряжался в одежды, однако иноки всё подворье обежали и чуждого не нашли.
— Как объявится, не отпускай от себя ни на шаг, — заторопился князь. — И лучше ко мне шли! Скажи, я одарю его и честь воздам. Путевым боярином кликну, коль пожелает.
— Добро, — согласился настоятель. — Но долг предупредить: сей гоноша строптив и волен поступать, как вздумается.
— Я волен поступать, как вздумается! — с достоинством поправил князь.
— Все иные люди под моей властью. А сейчас яви–ка мне лазутчика. Пускай он уличит изменников воочию, дабы потом среди бояр иных толков да пересудов не было, мол, бездоказательно обвинял и казнил. Они все заодно и друг за друга стоят горой.
Сергий в тот час послал иноков в пыточный скит, чтоб Никитку привели в монастырь, а сам ещё целый час пытался отыскать и вызнать, куда подевался оборотень. Один вежда с вежевой башни только и заметил, будто на рассвете некая тень мелькнула вдали над острогом — словно перепрыгнул кто. А человек или зверь, было не понять, поскольку иные араксы так прыгать выучились, что их ни один заплот или забор не держал. И всё равно решили, убежал чуждый из обители, хотя благосклонность самого великого князя открывала ему прямой путь в монастырское тайное воинство.
Никитка же после пытки в себя пришёл, пежины на рёбрах гусиным жиром смазал. Сидя в скиту на цепи, он не ведал, как князь с ближними боярами в бане парились и что изменники признались в заговоре. И почудилось послуху, положение не такое и худое, отбрехаться можно, де–мол, не стерпел боли на дыбе, вот и оговорил себя и честных бояр. О чём, не мудрствуя лукаво, и заявил, представ пред княжьи очи. Да ещё игумена уличил в неправедной жестокости и гонении послухов, прибившихся к монастырю в поисках избавления от мирских страстей и обретения духовного окормления.
— Ты же знаешь, князь, невеста у меня была, — жалобился лазутчик. — Младшая дочь Стрешнева, Евдокия. Всё сговорено промеж нас было, сватов в пору засылать. А Стрешнев прознал о сём и скороспешно выдал любу мою за Фрола Тугоухого!
Потому, мол, я на дыбе назвал этих бояр, а с ними и прочих, кто на свадебном пиру гулял, объявил раскольниками и изменниками. Дескать, дурного умысла не было у меня, за Евдокию вздумал отомстить по юной горячечности. А поскольку в обители я всего–то послух и пострига не принимал, то и Божьего суда нет надо мной. Ежели осудишь своим княжеским судом, то заслуживаю я снисхождения и пощады за юное неразумение и пыл сердечный.
Верно, Никитка на молодость князя полагался, на его прямодушность и явную неопытность в деле дознания, и просчитался. Настоятель в первый миг аж дар речи потерял от такого лукавства, однако князь ни единому слову боярского сына не поверил, выслушал жалобы и не удосужился даже вдругорядь вздёрнуть на дыбу послуха, услышать признания из его уст.
— Негоже чинить расправы и казни в обители, — посожалел он. — А посему отведите его подалее в лес, и на кол. Отца его сюда привести, пусть позрит. А потом и самого посадите рядом. И с кольев не снимать, покуда не сотлеют!
Палачи взяли его за шейную цепь и поволокли из предбанника прочь, только голова забрякала по порогам да ступеням.
— Пощади! — запоздало взвыл лазутчик. — Всё скажу! Имена изменников выкликну!..
Иноки ткнули его мордой в снег, а князь велел отворить двери парной и выпустить ближних бояр. Те едва на четвереньках выползли — так напарились. Повалились на землю и лежат, голёхонькие, стонут.
— Выкликай, — приказал Дмитрий.
Никитка и стал имена изменников называть. Лежащие большие бояре только вздрагивали, ровно под бичом, а малые, стоящие особняком, приседали, как если бы под колени их рубили. Но этот трепет рождался у них не из вины — из страха: вдруг ни с того ни с сего боярыч Ноздря кого из них выкликнет? Глухонемые встряхивали клятвопреступников, вязали конскими путами, вели к телегам и валили, словно кули с рожью. Всех больших из свиты погрузили, а Никитка всё ещё выкликал имена боярские, коих в обители не было. И отца своего, боярина Ноздрю, назвал в числе последних, кто пока что беззаботно пребывал в Москве и о княжеском дознании в Троицкой пустыни не ведал.