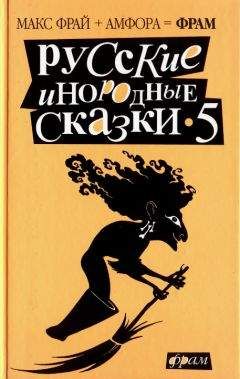Колготки для здоровья. Если я не буду их носить, бабушка пойдет со мной в «трицатый магазин», где продавец дает ей суповые с синими опечатками кости в мокрой суровой бумаге, и по дороге будет каждой встречной пенсионерке говорить вслух: «Вчера у него болел пыс». Вот она это скажет миллион раз, и я умру стоя. Я буду мертвый, буду ковырять кусок асфальта ногой и шипеть ноздрями, как будто меня понарошку душат больничным вафельным полотенцем:
— Бабушка, ну, бабушка же… бабушшшшшшкккка…»
А еще у меня есть ржаная лепешка.
Она такая плоская, совсем лепешка. Она пахнет сухарным квасом и коринкой, крупитчатая с хлебным глянцем-запеканкой, и сверху на ней насечки ромбики. Похоже на йодную сеточку, которую рисуют на синяках, чтобы до свадьбы зажило.
Я ее не ем, жалко. Просто держу в руке, как смотрю сны или программу мультфильмов.
Косо сечет снежная крупа, и сейчас же тает бусинками, потому что лепешка изнутри теплая. На улице хлеб пахнет совсем не так, как дома. Хлеб дома магазинный, запертый, а на улице он делается вкусным и опасным, как будто его пекли пастухи, нищие, сивые сычи и хорошие сволочи. Такой хлеб не берут в магазине, а бесплатно крадут, или он сам по себе выпадает из гнезда, как снег.
Мы с лепешкой полчаса живем в чужом дворе.
Мне десять лет. Я — дезертир и прогульщик.
Мне нужно идти в музыкальную школу, но я туда ни за что не иду. Я сижу на корточках и слушаю, что творится снаружи.
За углом жилого дома падает под гору до фабричных набережных Трехгорный вал и на наждачном проезжем полотне гудят по-пароходному, редкие грузовые машины, а в дк имени Ленина светятся окна танцевального зала, где девочки руки-в-боки грохают всеми пятками об пол и гаркают: «ка-за-чок!» — так что форточки от девочек дрожат.
Я застрял на полпути в этом дворе. Это интересный двор. Он узкий, как коридор. И в нем никогда не бывает людей.
С одной стороны его подпирают лысыми боковинами совсем старые дома мочегонного света, дома на добротных цоколях, с веерами кирпичной кладки над тесными окнами. Я знаю, что это — рабочие казармы. Их строили буржуи при царе, чтобы рабочим было где спать. Когда все буржуи умерли, в казармах зашевелились за перегородками чужие люди с алюминиевыми кастрюлями, беломорным дымом и несвежими газетными листами.
Люди шарят по книжным полкам, выставляют на подоконники трехлитровые банки с рассолом и пачки хозяйственного мыла, люди вкручивают в патроны голые симпатичные лампочки, люди едят из сковородки холодные макароны по-флотски, люди вешают на прищепки выстиранные пакеты, с которых капает, люди затыкают ветошью узорные дыры вентиляции, из радиоточки ни для кого поет государственным голосом муслимагомаев, на чьей-то конфорке ушло молоко — и воронам на ветках это дело обидно нюхать.
Я помню, что вчера закончился ноябрь.
Напротив казарм въехал утюгом высоченный горбатый холм, с мусорными обрывами с кривыми деревьями, с уступами и на макушке этого холма — железный частокол конторской ограды, две сизые башни с бельмами, вроде водонапорных, а дальше с красной строки — глухой флигель музыкальной школы, даже отсюда слышно, как туго пукает тромбон из окна. А может не тромбон, а туба, а может не туба, это все равно не наши. Мне никакого тромбона не дадут. Я пою в хоре по средам и пятницам.
Начальник хора — Гейнрихс. Он весь сделан из своей фамилии. А из остатков ему сделали жену. Она дирижирует всеми руками, на ушах у нее мочки, а в мочках — клипсы. Она слушает, кто просто открывает рот, а кто поет хором. Она учит нас говорить не «сольфеджио», а «сольфеджО». Гейнрихс сделан для того, чтобы чокать квадратным перстнем по крышке рояля и считать: «Раз-ын, два-ын, трын!».
Два месяца мы поем эстонскую песню. Слова Гейнрихс чирикает мелом на доске.
Он пишет, а мы поем, а он пишет.
Слова такие:
«Кёликел, кёликел,
Оледвайке лобус эл,
Сискуй сопру коли маяс,
Садад эра са!»
(Раз-ын, два-ын, трын, трын, трын)
Полукруглое окно репетиционного класса, между резными рамами зимует прошлогодняя бумага от мух, комья ваты с толчеными вдрызг елочными шариками. Стемнело рано, за чугунными копьями ограды тлеет лимонный фонарь. Я смотрю в окно и чтобы не спать, щурюсь, фонарь разъезжается начетверо газированными лучиками.
На жестяном подоконнике снаружи снежная жижица и голубиные кляксы с черными запятыми. Гейнрихс кормит голубей через форточку овсяными хлопьями. Голуби кивают и это самое кушают. Жена Гейнрихса встряхивает челкой над доминошными зубариками рояля, крышка откинута наискосок, видно, как дрожат и пыжатся медные кишечные завороты струн. Снизу по ним вежливо тяпают войлочные молоточки-собачки.
Сейчас из всей этой бузы получится музыка, голуби уковыляют вразвалку по карнизу, мы грянем на «раз-ын», битыми тарелочками задребезжат первые ряды девочек-сопрано, и грузно поддакнут с верхотуры стриженые альты в таких же, как у меня хоровых штанах-«брижах», которые надо беречь, потому что реквизит. А я впустую разину рот, зевну в такт и эту «сискуй сопру» не спою. Тут меня, как жулика, выведут к рояльным копытцам и скажут: «А если на концерте в Колонном Зале Дома Союзов все откроют рот и не споют, что получится? А?»
Меня ни в каком случае не переведут в старший хор и не покажут по телевизору. И на гастроли в Тольятти я тоже не поеду по железной дороге. Ни в каком случае.
Я — гад.
Зато у меня есть лепешка. Хотите, я вам всем ее подарю? Не хотите, как хотите, мы с ней сейчас полезем на кудыкину гору, воровать помидоры.
На дворовую гору я карабкаюсь локтями и коленками, а сумка хлопает меня сзади, а опасно скользят вперемешку со снегом черные листья.
Я долго дышу на верху, держась за холодные прутья решетки. Слева дрыгается на ветру веревка тарзаньих качелей, их держит в раздвоенной ветви сырое дерево тополь.
Меня здесь никто не найдет.
За оградой сизого особняка фабриканта Прохорова вполоборота сидит холодная женщина, предлагает любому в награду мраморные пломбирные рукава с горками слабого первого снега. Круглые кудри женщины убраны в пучок. На верхнем ветру остекленели соленые миндальные скорлупы абсолютно пустых глаз. Осень зашлепала ее груди и спину кленовыми пятернями, «носиками» крылатых семян, красно насорила на колени горстями расклеванной рябины. Отступила от постамента и оставила женщину так, зимовать всухомятку вместе с каменным гончим псом у ног, с пустым колчаном и полумесяцем на высоком по-тоскански затылке.
Сто лет назад какой-то дурак вкатил, пыхтя, на холм великанскую катушку с намотанным синим кабелем. Я ложусь на эту катушку боком, прижимаю колени к груди и смотрю на женщину. Между нами — черные прутья, колкая пудра снега, особняк зажег квадраты конторских окон, там — «учреждение». В нем сидят глубоководные машинистки, маячат с этажа на этаж пиджаки с кипами папок, а в жестянках из-под зеленого горошка и болгарских компотов торчат кактусы и щупальца столетника.