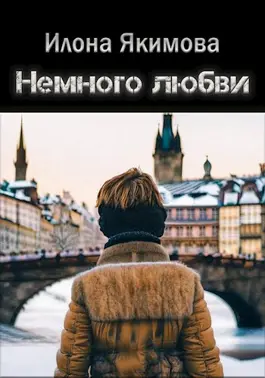Алчность. То, что вело его, называлось алчностью, а еще чистопородная, ничем не омрачаемая вольность. Вечная, неутолимая жажда свободы.
Сан-Марко
В Венеции следует ощущать себя персонажем книги какого-нибудь интеллектуала-извращенца, какого-нибудь, прости господи, Эко, которого он так любил. Только это и примиряло с действительностью. Жизнь как текст. Пишешь сам — позволяй писать и себя. Смотри на себя в контексте истории, в формате страницы. Верь, что автор выведет тебя к финалу, достойному роскошного образа, который ты сам любовно создавал многие годы, покуда наконец образ не принялся создавать тебя самого.
Вапоретто уютно бухтел, подтаскивая новую группу туристов и местных к Сан-Марко. Джудекка осталась по левую руку, катерок качнуло от теплохода, идущего мимо пьяцетты — теплохода, высотой превышающего и сам дворец дожей, с верхней палубы можно посмотреть под хвост льву святого Марка на одной из колонн, крокодилу Теодора — на другой, заглянуть в глаза чайке. Венеция — радиоактивный источник красоты, Грушецкий прямо чувствовал, как тут на нем прорастает лишняя, мутационная пара крыльев. При том, сколько всего он видел, у него не было ничего, что он мог бы счесть по-настоящему своим. Но роднило что его с Венецией — у этой бабы заемное тоже примерно всё. И святые собраны по типу Франкенштейна, и сиськи силиконовые, и тетрархи ворованные, и кони угнаны из Константинополя. Великий обман — вот что привлекало заниматься со Светлейшей сексом, искушение: ну, а вдруг она, раскрывшись под тобой, покажет себя настоящей? Какие сокровища ты тогда обретешь, пришелец? Те, кто говорят, что лагуна воняет, не стояли на берегу Ганга. Вранье! Лагуна пахла солоно и пряно, как женщина. Он бывал в Венеции неоднократно, в разные времена года, и всякий раз она пахла морем и женщиной — юной, зрелой, пожилой, разной — но не гниением и тленом. Она незримо присутствовала третьей в любом его соитии с подругой. Отдавалась она ему и сейчас, когда прибыл один, без пары. Ее надо было ласкать, пробовать на язык, доводить собой до неистовства, ею следовало причащаться. Чувство было столь сильным, что не удержался, облизнул губы, — и легко сошел на пристань.
И она приняла, открылась.
Пьяцетта — замирание сердца, предвкушение события. Довольно странное чувство, ибо видал он немало, и Европе предпочитал Азию. Подумаешь, еще одно открытое пространство, обрамленное архитектурными шедеврами в смешанном стиле. Возможно, дело в том, что первый раз пару порфировых колонн он увидел в юности, а там, понятно, импринтинг яркий… Сейчас он сам себе напоминал пьяцетту — везде натыренное, нахватанное, не усвоенное, почти своё. Вечно притворяющееся чем-то другим, как персидская химера четвертого века покорно притворяется львом святого Марка. Но хвост-то торчит! Совершенно не львиный хвост, ежели приглядеться. И он сам, о да, та же химера, тот же хамелеон, вхож везде, не похож ни на что, ответственен только сам за себя и за производимое впечатление. И в этом плане ясный пан Грушецкий ощущал себя очень, очень венецианцем. Ибо здесь, в Венеции, нет лжи. Но есть легенда о себе.
Мавры на часах стукнули молоточками, и он задрал голову в небо. Когда смотришь в небо на пьяцетте, видишь себя бессмертным. И еще видишь чаек, кусающих ту химеру за хвост, несущих на крыльях легенду. На пьяцетту он придет чуть позже, повторно. Библиотека Марциана его дождется. Стоять очередь в Сан-Марко — ну, только если ради Анельки. Дворец дожей он не любил. Слишком много позолоты, завитушек барокко, слишком много помпезности, и со всех сторон на тебя валится морская слава Венеции — даже и с потолка. Вот ради батальных сцен, морских сражений Гонза туда и ходил. Да еще шикарные мужские жопы на выходе с Лестницы гигантов всегда удостаивались его одобрительного взгляда — не с низкой целью, а для сравнения с собственной, так сказать. Накачал такую — это ж уже красавчик. Честными тут, во дворце, были только стрельчатые готические окна, сквозь которые сияла лагуна и белый кристалл Сан-Джорджо, да тюрьма. Мост вздохов в лесах не вызвал вздохов. И, не вздохнув, Грушецкий свернул в первую попавшуюся калле. Благо в Венеции везде есть, куда свернуть.

Параллельно Мерчериям, прямо за часовой башней святого Марка, калле дель Пеллегрин, конечно же, нет ему более подходящего пути, дабы погрузиться в Венецию, — и она была узка, непривычна к его нерядовому размеру. Теснота по первости доставляла привычное удовольствие, а потом она, Венеция, расходилась, подстраивалась, но продолжала сжимать — порой робко, порой уверенно, пока уже он не ощущал необходимости выскользнуть. Но пока был в ней, она подавалась навстречу. Здесь, в подворотнях, и начиналась настоящая жизнь: лавочки, пицца навынос, баккаро, белье, дышащее на веревках, протянутых поперек улиц. Заскорузлый хозяйственный магазинчик, непривычный среди сувенирных лавок, стойко цеплялся за свое место, сопротивляясь давлению туристических волн, и Гонза сунул нос в ассортимент: спрей для отпугивания голубей — рядом с пьяцца Сан-Марко это смахивает на осознанный терроризм. Голубей Гонза не любил, срут много. Да и вообще птицы, особенно крупные, теперь будили в нем логически необъяснимую антипатию. Ну, ладно — именно логически и объяснимую. Чайки, например, не вызывали особого отторжения, а вот на голубей посматривал он с неприязнью. Какое-то путешествие Нильса, только наоборот. В смысле, что гуси, того и гляди, сожрут, а в человека обратно никто превратить и не обещал. Некому обещать, вырос мальчик, сказка окончена. Когда после проходного, торопливого акта в тесноте калле выскальзываешь на кампо — и хочется либо нырнуть, либо взлететь. Взлететь он позволить себе никак не мог, даже и не прилюдно. Посему вышел к паромной переправе — перекинуться на другой берег Большого канала. Трагетто пользовался стоя, как венецианец. В нем и вообще было развито седьмое чувство урожденного путешественника — мимикрировать под город. Может быть, ему так просто решиться на что-то, потому что он бесконечен. Может быть, потому он так текуч, что уже был здесь. И когда-нибудь будет снова.
И соскочил на пристань.
Глава 3 Риальто
Риальто
Романтика романтикой, а опыт не пропьешь. Момент неловкости Грушецкий усек сразу. Толпа туристов сыпанула с трагетто, пяток местных за ними, кто-то замешкался, роясь в сумке, но в целом нетрудно оказалось заметить, как чья-то тоненькая лапка аккуратно потрогала его за задний карман карго. Наивные, непуганые дети, ей-богу, кто ж носит бумажник или смартфон на жопе, да еще в Венеции. Но нарочно замедлился, встал, заозирался на красоты набережной… и лапка уверенно скользнула в боковой карман. А мгновеньем позже чуть не хрустнула у него в кулаке. Только тут Гонза обернулся к добыче: пацан лет двенадцати, еще неоперившийся, худющий, глаза в обводке сизых синяков и зыркают. Даже не заорал, когда его поймали — заизвивался рывками, но Гонза глянул, и тот притих. Секунда, и рука мальчишки в захвате начала мелко дрожать. Грушецкий посмотрел, потом посмотрел еще… зашел глубоко и увидел, как внутри того, словно мягкая, незащищенная личинка, припадочно вьется колечками страх. Его собственный квартирант тут же стал разворачивать крылья. Убить ведь очень легко — достаточно один раз позволить себе… зайти немного дальше положенного. Парень начал исступленно дергаться в мертвом захвате, хотя ничего, совершенно ничего не поменялось ни в выражении лица, ни в облике высокого мужчины без определенного возраста, в самом среднем туристическом прикиде, — дергаться молча, кричать не мог.
Страх… это было хорошо. Это было приятно.
Его собственная суть разве что не урчала внутри.