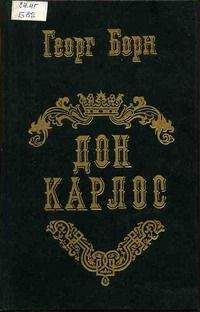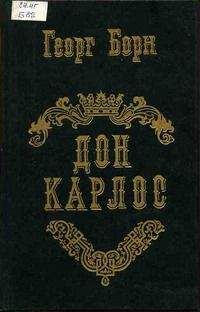Я прождала около двадцати минут, как вдруг женщина, одетая в красный брючный костюм и туфли на платформе, вышла из двери за конторкой клерка. Она задержалась под лампой. Обдуманным жестом она откинула назад свою голову так, что локоны ее белокурых волос замерцали на свету.
— Ты не узнала меня, не так ли? — Она весело улыбнулась.
— Это на самом деле ты, Делия? — воскликнула я в удивлении, с раскрытым ртом уставившись на нее.
— Ну, а как ты думала? — Все еще посмеиваясь, она шагнула со мной на тротуар по направлению к моей машине, припаркованной перед гостиницей. Она швырнула свою корзину и вещевой мешок на заднее сидение моего маленького автомобиля с откидным верхом, затем села рядом со мной и сказала:
— Целительница, к которой я везу тебя, говорит, что только очень молодой и очень старый человек могут позволить себе выглядеть вызывающе.
Прежде чем я успела напомнить ей, что к ней не относится ни то, ни другое, она призналась мне, что она значительно старше, чем кажется. Ее лицо сияло, когда она повернулась ко мне и воскликнула:
— Я напяливаю это обмундирование, потому что люблю поражать моих друзей!
Имела она в виду меня или целительницу, она не сказала. Конечно же, я была поражена. И это касалось не только ее нарядов, которые сильно отличались по стилю, — изменилась вся ее манера поведения. Не осталось и следа от надменной, настороженной женщины, которая проехала со мной от Ногалеса до Эрмосильо.
— Это будет самое очаровательное путешествие, — произнесла она, — особенно если мы откинем верх. — Ее голос звучал счастливо и мечтательно. — Я обожаю путешествовать ночью в машине с откинутым верхом.
Я охотно выполнила ее пожелание. Было почти четыре часа утра, когда мы оставили позади Эрмосильо. Небо, неяркое и черное, испещренное звездами, казалось самым высоким из тех, что мне приходилось видеть. Я ехала быстро, тем не менее казалось, что мы вообще не движемся. В свете фар без конца появлялись и исчезали шишковатые силуэты кактусов и мескитовых деревьев. Казалось, что они все были одной и той же формы, одного и того же размера.
— Я упаковала с собой несколько сладких булочек и полный термос чампуррадо, — сказала Делия, доставая свою корзину с заднего сидения. — Утро наступит до того, как мы доберемся до дома целительницы.
Она налила мне полчашки густого горячего шоколада, приготовленного с маисовой мукой, и накормила рулетом по-датски, давая мне кусочек за кусочком.
— Мы проезжаем через волшебную страну, — сказала она, прихлебывая восхитительный шоколад. — Волшебную страну, населенную воюющими людьми.
— Что это за воюющие люди? — спросила я, стараясь, чтобы это не прозвучало снисходительно.
— Яки, народ Соноры, — сказала она и замолчала, вероятно оценивая мою реакцию. — Я восхищаюсь индейцами яки, потому что они постоянно воевали, — продолжала она. — Сначала испанцы, а затем мексиканцы — не далее как в 1934 году — испытали храбрость, хитрость и безжалостность воинов яки.
—Я не в восторге от войны или от воинственных людей, — сказала я. Затем, чтобы оправдать свой резкий тон, я объяснила, что происхожу из немецкой семьи, которая была разлучена войной.
— У тебя другой случай, — заключила она. — У тебя не было идеалов свободы.
— Минутку! — возразила я. — Именно потому, что я поддерживаю идеалы свободы, я нахожу, что война так отвратительна.
— Мы говорим о двух различных видах войны, — настаивала она.
— Война есть война, — заметила я.
— Ваш вид войны, — продолжала она, не обращая внимания на мое замечание, — ведется между двумя братьями, которые оба являются правителями и сражаются за верховенство. — Она наклонилась ко мне и настойчивым шепотом добавила: — Тот вид войны, о котором говорю я, ведется между рабами и хозяевами, которые думают, что люди — их собственность. Заметила разницу?
— Нет, — упрямо настаивала я и повторила, что война — это война, независимо от причин.
— Я не могу согласиться с тобой, — сказала она, громко вздохнув и откинувшись назад на своем сиденье. — Возможно, причина наших философских разногласий в том, что мы вышли из различных социальных реальностей.
Удивленная выбранными ею словами, я автоматически сбросила скорость. Мне не хотелось показаться грубой, но слушать ее концептуальные академические разглагольствования было настолько нелепо и неожиданно, что я ничего не могла с собой поделать и расхохоталась.
Делия не обиделась. Она с улыбкой глядела на меня, оставаясь вполне довольной собой.
— Если ты хочешь понять то, о чем я говорю, тебе нужно изменить восприятие.
Она высказала это настолько серьезно и тем не менее настолько доброжелательно, что я почувствовала себя пристыженной за свой смех.
— Ты можешь даже извиниться за то, что смеялась надо мной, — добавила она, словно прочитав мои мысли.
— Действительно, я хочу извиниться, Делия, — произнесла я, искренне осознав это. — Я ужасно сожалею о моей грубости. Я была так удивлена твоими формулировками, что просто не знала, как поступить. — Я бросила на нее быстрый взгляд и добавила сокрушенно: — Вот и рассмеялась.
— Я не имела в виду социальные оправдания твоего поведения, — сказала она, дернув от досады головой. — Я имела в виду оправдание из-за непонимания положения человека.
— Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказала я с тревогой и почувствовала, как ее глаза сверлят меня насквозь.
— Как женщина, ты должна понимать это положение очень хорошо, — произнесла она. — Ты была рабыней всю жизнь.
— О чем ты говоришь, Делия? — спросила я в раздражении от ее дерзости, впрочем, сразу смягчилась, подумав, что, несомненно, бедная индеанка имела невыносимого мужа-тирана. — Поверь мне, Делия, я совершенно свободна. Я делаю, что хочу.
— Ты можешь делать, что тебе нравится, но ты все равно не свободна, — настаивала она. — Ты — женщина, а это автоматически означает, что ты во власти мужчины. — Я не нахожусь ни в чьей власти, — воскликнула я. То ли мое голословное утверждение, то ли тон моего восклицания, не знаю, вызвали у Делии взрыв грубого хохота. Она смеялась надо мной так же безжалостно, как до этого я над ней.
— Кажется, ты в восторге от своего реванша, — раздраженно заметила я. — Теперь твой черед смеяться, не так ли?
— Это совсем не одно и то же, — произнесла она, внезапно став серьезной. — Ты смеялась надо мной, ощущая свое превосходство. Раб, который говорит как господин, всегда восхищается господином в этот момент.
Я попыталась прервать ее и сказать ей, что у меня и в мыслях не было думать о ней как о рабыне, а о себе как о госпоже, но она проигнорировала мои попытки. Все так же серьезно она сказала, что причина ее смеха надо мной заключалась в том, что я заплатила женской природе своей глупостью и слепотой.