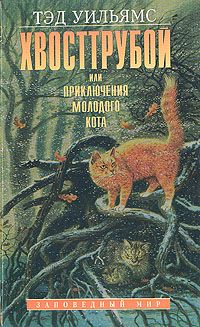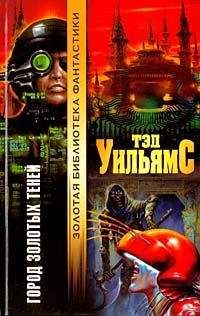«А Мягколапки все нет и нет», – подумал Хвосттрубой. Но где же она? Никто не пропускал Ночи Сборищ без серьезнейших на то причин. Сборища происходили только в ночи, когда Око было полностью открыто и блестело полным блеском.
«Может быть, она запоздает», – подумал он. А может, как раз сейчас она гуляет с Верхопрыгом или Вертопрахом – томно вытягивая хвост, чтобы их очаровать.
Это соображение рассердило его. Он повернулся и невзначай дал тычка котишке-подростку, который подвернулся ему под лапу. Юный Шустрик – так звали котенка – испуганно взглянул, и Фритти тотчас устыдился содеянного: озорной котенок частенько бывал надоедлив, но вообще-то зла никому не делал.
– Я нечаянно, Шустрик, – сказал он. – Не заметил я, что это ты. Думал, старый Ленни Потягуш: ему-то я и собирался преподать урок.
– Неужели? – изумленно выдохнул юнец. – Так ты, значит, ему хотел двинуть?
Фритти пожалел о своей шутке. Ленни Потягуш вряд ли нашел бы ее забавной.
– Ну так или этак, – отмахнулся он, – я по ошибке, и приношу извинения.
Шустрик был несказанно польщен: его приняли за взрослого!
– Естественно, я приму твои извинения, Хвосттрубой, – важно ответствовал он, – вполне простительная ошибка.
Фритти фыркнул. Шутливо куснув котенка в бок, он продолжил свой путь.
Прошла добрая половина Глубочайшего Покоя, Сборище было в разгаре, а Мягколапка так и не явилась. Пока один из Старейшин поучал собравшуюся толпу – возросшую теперь почти до шестидесяти котов и кошек, – Хвосттрубой разыскал Маркиза, сидевшего с Цап-Царапом и его ватагой. Старейшина повествовал об огромном и скорее всего опасном Рычателе, который, сорвавшись с цепи, носится по округе, и Маркиз с приятелями внимательно слушали, но тут Фритти окликнул Тонкую Кость:
– Маркиз! – выдохнул он. – Можно тебя на минуточку? Надо поговорить!
Маркиз зевнул, потянулся и прыгнул на выступ корневища, где присел Фритти.
– Чего тебе? – приветливо поинтересовался он. – Мне что, пора взять урок лая?
– Пожалуйста, без шуточек, Тонкая Кость. Я никак не найду Мягколапку. Ты, случайно, не знаешь, где она?
Под мерное гудение Старейшины Маркиз с интересом оглядел Фритти.
– Так, – обронил он. – То-то я замечаю – ты чем-то озабочен. Так это из-за фелы?
– Прошлой ночью мы с ней начали Брачный Танец, – ответил уязвленный Фритти, – и не успели закончить его до восхода солнца и сговорились дотанцевать нынче ночью. Конечно, она сошлась бы со мной! Отчего же она пропустила Сборище?
Маркиз прижал уши, изображая ужас:
– Прерванный Брачный Танец! Клянусь усами Плясуньи Небесной! Да ведь у тебя шкура уже облезает! И хвост вот-вот отвалится!
Фритти досадливо тряхнул головой:
– Ну ясно, ты считаешь это смешным. Тонкая Кость, – ведь при твоей бесчисленной свите вертихвосток ты и знать не желаешь о настоящей Любви! Но я – знаю и беспокоюсь о Мягколапке! Помоги мне, пожалуйста.
Тонкая Кость с минуту глядел на него, моргая и почесывая за правым ухом.
– Будь по-твоему, Хвосттрубой, – просто сказал он. – Что я мог бы для тебя сделать?
– Да нынешней-то ночью многого нам уже не сделать, но, если я не найду ее завтра, может, пойдешь со мной поискать ее?
– Может, может, – ответил Маркиз, – но, по-моему, не мешало бы чуточку подождать… ой!
Снизу к ним прыгнул Цап-Царап, ткнув Маркиза в ляжки твердым лбом.
– Эй, ребятки! – крикнул он. – Что тут еще за таинственные переговоры? Жесткоус собирается рассказывать, а вы тут сидите как два жирных кастрата!
Хвосттрубой и Тонкая Кость спрыгнули вниз вслед за приятелем. Фелы фелами, но кто же, фыркнув, отвернется от хорошего рассказа?
Племя теснее обступило Стену Сборищ – море колеблющихся хвостов. Жесткоус неторопливо, с безграничным достоинством вскарабкался на обвалившуюся Стену. На самой вершине он остановился, выжидая.
Жесткоус, которому минуло не то одиннадцать, не то все двенадцать лет, был, конечно, уже совсем немолодой кот, но во всех его движениях чувствовалась железная выдержка. Черепахового окраса мех, некогда поблескивавший и черным, и бурым, с годами кой-где поблек, а жесткая шерсть, которая топорщилась вокруг морды, поседела. Но глаза у него были ясны и блестящи, и взгляд их мог остановить разрезвившегося котенка в трех прыжках от его персоны.
Жесткоус был мяузингером, сказителем-Миннезингером, одним из хранителей Премудрости Племени. В его песнях заключалась вся история Кошачества, из поколения в поколение передаваемая на Языке Предков как священное наследие. Жесткоус был единственным миннезингером в окрестностях Стены Сборищ, и его сказания были для Племени необходимы, точно вода, точно свобода бегать и прыгать как душе угодно.
Он долго обозревал сверху толпу под Стеной. Выжидательное бормотание перешло в негромкое мурлыканье. Кое-кто из юных котов – страшно возбужденных и неспособных сидеть тихо – спешно принялся вылизываться. Жесткоус трижды хлестнул хвостом, и воцарилось молчание.
– Мы благодарим наших Старейшин, которые оберегают нас, – начал он. – Мы восхваляем Мурклу, чье Око светит нам во время охоты. Мы приветствуем нашу добычу за то, что она делает охоту наслаждением.
– Благодарим. Восхваляем. Приветствуем.
– Мы – Кошачий Род, и ныне ночью в один голос говорим обо всех деяниях наших. Мы – Племя.
Кошки плавно раскачивались, завороженные древним ритуалом. Жесткоус начал свое повествование.
«Во дни юности земной, когда некоторых из Первородных можно еще было узреть на этих полях, владениями Харара правила королева Атласка, внучка Фелы Плясуньи Небесной. И славной королевой была она. Лапа ее была столь же справедлива, благодетельствуя Племени, сколь молниеносен был коготь ее, разивший врагов.
Сын ее и соправитель был принц Многовержец. То был громадный кот, могучий воин, вспыльчивый, непомерно надменный для юных своих лет. Что касается его Именования, легенда гласит, что еще котенком он единым взмахом когтей своих поверг и убил сразу девять скворцов, сидевших в ряд на ветке. Потому он и был Именован Многовержцем, и далеко разошлась слава о его силе и деяниях.
Минуло много-много лет со времени гибели Виро Вьюги, и никто из живших в то время при Дворе ни разу не видывал кого-либо из Первородных. Несколько поколений сменилось с тех пор, как Огнелап пустился странствовать в дебрях, и многие считали его умершим или удалившимся на небеса к отцу своему и бабке.
Из уст в уста шла по Племени молва о мощи и смелости Многовержца, и стал Многовержец внимать тем ничтожествам, что вечно льнут к великому Племени, и стал он считать себя равным Первородным.