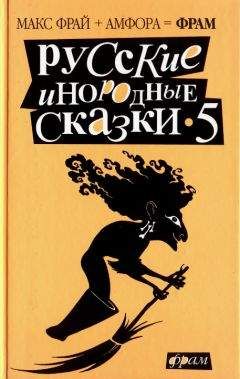— О великодушнейший шахиншах, дозволительно ли будет ничтожному визирю задать вопрос, который давно уже мучает его?
Шахиншах, отодвинул в сторону серебряное блюдо с остатками куропатки, рассеянно поболтал пальцами в чаше с водой, поверх которой плавали лепестки роз, и коротко кивнул:
— Спрашивай.
— Один день сменяет другой, но ни прохладным утром, ни в жаркий полдень, ни в полный истомы час заката мудрецы дивана — увы им! — не видят тебя, о блистательный, и женщины гарема — увы им! — не видят тебя, о блистательный. Нет тебя под сенью хрустальных струй фонтанов, нет тебя в прохладе садов, нет тебя в пышных покоях. Исполнившись тревоги, посылал я стражников на базар, но и там не нашли тебя, о блистательный. Отчего пренебрегаешь ты всей роскошью и утехами дворца, лишь в сумерках, подобно Луне, являя лик свой, и нет ли в том нашей вины?
Шахиншах посмотрел на недоуменное и озабоченное лицо седобородого старца и сделал легкий жест рукой, подзывая его поближе. Тот сорвался с места, едва не запутавшись в собственных узорчатых туфлях с загнутыми носами, и почтительно склонился перед своим господином, невольно выхватив взглядом странный серый мешок из непонятного грубого материала, неуместно торчащий стоймя на фоне украшенной резьбой стены. «Ох уж эти слуги! — подумал он. — Обнаглели, обленились. Здесь, где все должно услаждать взор владыки, — и такое безобразие! Ну ничего, я им сегодня задам!»
— Нет за вами вины. Мудр мой диван, прекрасен мой гарем, прохладны сады и роскошны покои. Но… — И тут шахиншах склонился к самому уху визиря. — Если б ты только знал, советник, как мне здесь скучно!
…Нет, не хотел я здесь жить, это ты настояла, дни и ночи твердила: посмотри, как хорошо. И не город, и не лес, в аккурат между окраиной и монастырскими воротами, и люди рядом, не пропадем, и покой, тишина, ты же любишь тишину, да? — спрашивала. Я-то люблю, только какой же здесь покой: что ни день, то плачут, рыдают, воют, кричат, бубнят, лопаты звякают, земля о дерево грохочет — это тишина, по-твоему?! Только ради тебя и согласился, принял эту должность, дурней которой и на свете нет: от кого сторожить мертвых? Кому в них корысть? Ну да, работа нетрудная, ладно, если тебе здесь лучше — пусть….
…Знаю, ты мне не веришь. Знаю взгляд твой настороженный, измену высматривающий, взгляд твой печальный, обреченный, смиренный, во всем только себя самого винить готовый. Не веришь, а я все равно люблю тебя. Сердце замирает, когда вижу складку у рта, высокий твой лоб, светлые мудрые глаза, широкие твои ладони, прямые плечи… Ах, но кто же виноват, любимый, что все так?! Лишь с тобой, с одним тобою всю вечность — но ты холодный, холодный, и нежность твоя — только от ума и сердца, а мне, чтобы взлететь, телесный жар нужен, никуда не денешься, та сила нужна, что выплескивается, когда плоть корежит и ломает от желания, — без нее не стану я легче воздуха, не взметнусь к тучам, не зачерпну колких молний… И отказаться я от этого не могу… пока не могу, прости, любимый. Сам знаешь: на людей я порчу не насылаю, овес на полях не палю, молоко у коров не сквашиваю, но грозы… ах, грозы… Может быть, когда-нибудь постарею, потухну, прижму твою голову к себе между плечом и шеей и никуда уже не уйду, ни на час, останемся вместе навечно…
…Я как ее сквозь ограду в первый раз увидел, сразу понял: ведьма! Мужняя ведь жена — плат на голове, подол по траве загребает, а взгляд такой черный, жгучий, что сразу же представилась она простоволосая, обнаженная, и родинка под левой грудью крестом перевернутым — метка Лукавого. Господи, спаси, здесь ли, в монастыре, месте тихом и благолепном, думать об эдаком?! И ведь не ходил я к ограде, две седьмицы не ходил, а на третью — сама она мне во сне явилась. Выгнулась на постели, захохотала, припала горячим ртом, заскользила губами от лица к груди, от груди — к тем местам, о которых и молвить-то срамно… Поднял руку, чтобы перекреститься, а в руке — теплая, живая, упругая — и капля молока на соске… Хочу Всеблагого на помощь призвать, а уста мне влажный язык раздвигает, ластится змейкой, с ума сводит…
Проснулся — весь в поту, тело горит, простынь смята — и пятно на ней. Ведьма, ведьма! Десятый день пощусь, десятый день поклоны бью, а все не идет она у меня из ума: глаза закрою — тьма и ее дыхание на моей коже… И сил нет на молитву. Ведьма, ведьма! Что же не приходишь ты ко мне вновь?..
…А ты думаешь, монашек, это так просто все? Пятнадцать дней нужно слезами умываться, пятнадцать дней в ледяной постели ворочаться, грудь ногтями раздирать, видеть тело твое — худенькое, нежное, бледное, чертить в воздухе ложбинку вдоль спины, кончиками пальцев ягодицы твои тощие, мальчишеские искать, губы себе до крови прокусывать, представляя, словно это ты в мой рот впиваешься, языком кружить, точно нащупав на вершине маленькую дырочку, обнимать устами пустоту и корчиться от молний невидимых, что все тело насквозь пронзают… Изведешься вся, сбежишь с кровати, протиснешься к мужу, прижмешься, а он лишь по голове погладит: спи, спи, ну что же я-то могу сделать, не плачь…
И только на шестнадцатую ночь приходит тот сон… ах, зачем мне явь? — чт[?] мне руки твои неумелые, чт[?] семя?! Не ты мне нужен, монашек, а сила твоя, за нее одну плачу лаской и наслаждением. Соберу ее, скручу в груди тугой пружиной, отпущу — и ввысь! Стянутся тучи к рукам моим, ударят молнии, взметнется ветер, подхватит меня и понесет над верхушками деревьев, огневую, кипящую, выше, выше, пока не обожжет ледяной холод и не прольюсь я дождем. Приду в себя, шагну через порог, встану на колени у гроба мужа: прости меня, одного тебя люблю. — «Да, маленькая, да, хорошая…»
…Недаром братия шепталась, что жена кладбищенского сторожа — ведьма, ох, недаром! Великий грех в монастыре случился — повесился молодой монашек, одну только фразу в записке и оставил: «Две недели — а тебя все нет!» Я уж каждого, кто охрану нес, опросил — нет, ворота на заборе, стены крепки, ограда высока. Кто ж, кроме ведьмы, смог бы его навещать?! А ведьму — известное дело — на костер положено. Обойдемся и без горожан — возьму с собой десять монахов покрепче, неужто со стариком и бабой не справимся?!.
…Вот видишь, любимая, что ты наделала?! Говорил я тебе: лучше у ратуши домик снимем — мало ли подмастерьев смазливых по городу бегает? Каждый из них еще и счастлив бы был! А теперь вот — слышишь? — идут из монастыря, хотят нам двери и окна заложить да спалить в собственном доме. Ты же знаешь, маленькая, не люблю я убивать — кровь людская мерзкая, жирная, да и отвык я уже молодым становиться, отвык горячий ток в жилах чувствовать. А они-то вдесятером, да еще и аббат — значит, на одиннадцать лет я почти человеком стану: есть смогу, пить, дождь на лице чувствовать… тебя любить смогу… ну хоть какое-то оправдание…