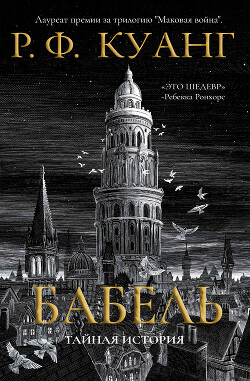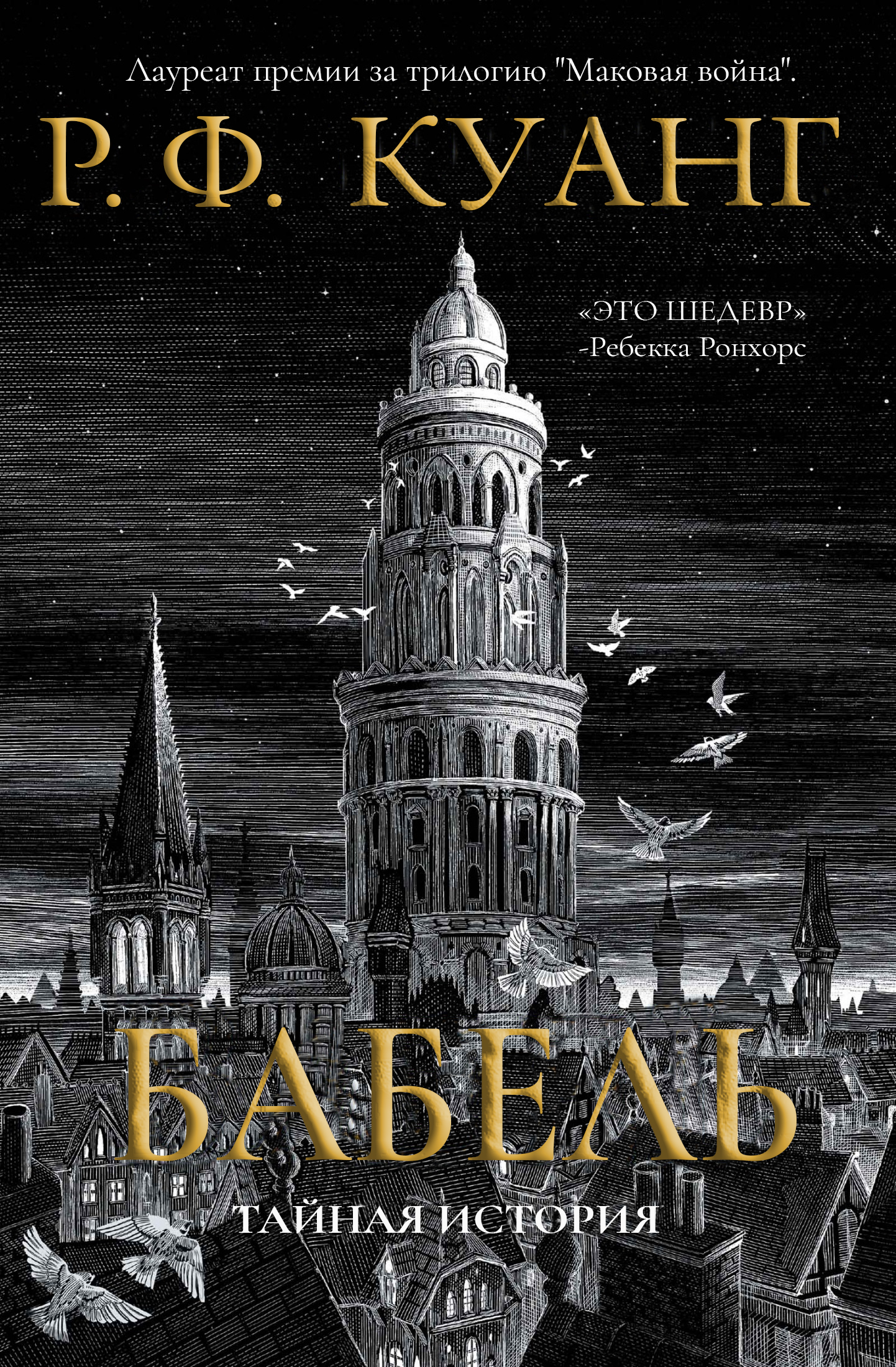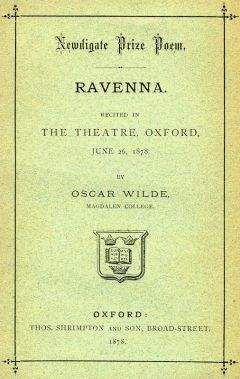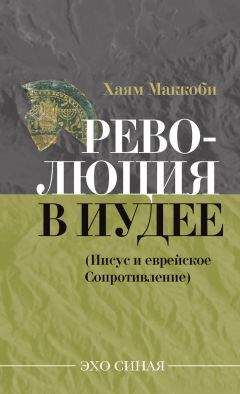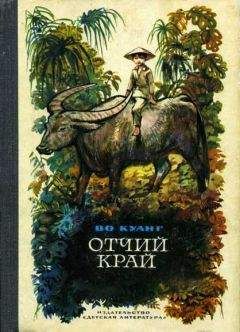Урок китайского языка был совершенно иным занятием, чем латынь. Профессор Чакраварти не читал лекции Робину и не заставлял его декламировать. Он вел этот урок как беседу. Он задавал вопросы, Робин старался ответить, а они оба пытались понять смысл сказанного.
Профессор Чакраварти начал с таких простых вопросов, что Робин сначала не мог понять, как на них можно ответить, пока не разобрал их смысл и не понял, что они выходят далеко за рамки его понимания. Что такое слово? Что такое наименьшая возможная единица смысла, и почему она отличается от слова? Отличается ли слово от иероглифа? Чем китайская речь отличается от китайской письменности?
Это было странное занятие — анализировать и разбирать язык, который, как ему казалось, он знал как свои пять пальцев, учиться классифицировать слова по идеограммам или пиктограммам и запоминать целый словарь новых терминов, большинство из которых были связаны с морфологией или орфографией. Это было похоже на рытье туннеля в щели собственного разума, разглядывание вещей на части, чтобы понять, как они работают, и это одновременно интриговало и тревожило его.
Затем появились более сложные вопросы. Какие китайские слова можно отследить до узнаваемых картинок? А какие нет? Почему иероглиф «женщина» — 女 — был также радикалом, используемым в иероглифе «рабство»? В иероглифе «добро»?
Я не знаю, — признался Робин. Почему? Разве рабство и доброта по природе своей женственны?
Профессор Чакраварти пожал плечами. Я тоже не знаю. На эти вопросы мы с Ричардом все еще пытаемся ответить. Видите ли, мы далеки от удовлетворительного издания «Китайской грамматики». Когда я изучал китайский язык, у меня не было хороших китайско-английских ресурсов — мне приходилось довольствоваться «Elémens de la grammaire chinoise» Абеля-Ремюзата и «Grammatica Sinica» Фурмона. Можете себе представить? И китайский, и французский до сих пор ассоциируются у меня с головной болью. Но я думаю, что сегодня мы добились прогресса».
Затем Робин понял, каково его место здесь. Он был не просто студентом, а коллегой, редким носителем языка, способным расширить границы скудных знаний Бабеля. Или серебряная жила, которую нужно разграбить, сказал голос Гриффина, но он отогнал эту мысль.
По правде говоря, ему было приятно внести свой вклад в развитие Грамматики. Но ему еще многому предстояло научиться. Вторая половина занятий была посвящена чтению по классическому китайскому языку, которым Робин занимался у профессора Ловелла, но никогда не занимался систематически. Классический китайский был для простонародного мандарина тем же, чем латынь для английского: можно было догадаться о сути фразы, но правила грамматики были неинтуитивными и не поддавались пониманию без тщательной практики чтения. Пунктуация была игрой в угадайку. Существительные могли быть глаголами, когда им этого хотелось. Часто иероглифы имели различные и противоречивые значения, любое из которых давало правильные возможные интерпретации — иероглиф 篤, например, мог означать как «ограничивать», так и «большой, значительный».
После обеда они занялись «Шицзин» — «Книгой песен», которая была написана в дискурсивном контексте, настолько далеком от современного Китая, что даже читатели эпохи Хань сочли бы ее написанной на иностранном языке.
Я предлагаю прерваться», — сказал профессор Чакраварти после двадцати минут обсуждения иероглифа 不, который в большинстве случаев означал отрицательное «нет, не», но в данном контексте выглядел как похвальное слово, что не соответствовало ничему, что они знали об этом слове. «Я подозреваю, что нам придется оставить этот вопрос открытым».
«Но я не понимаю», — сказал Робин, расстроенный. Как мы можем просто не знать? Можем ли мы спросить кого-нибудь обо всем этом? Разве мы не можем отправиться в Пекин в исследовательскую поездку?
Мы могли бы», — сказал профессор Чакраварти. Но это немного усложняет дело, когда император Цин постановил, что обучение иностранца китайскому языку карается смертью, понимаете ли». Он похлопал Робина по плечу. «Мы обходимся тем, что у нас есть. Ты — лучшее, что есть».
«Разве здесь больше нет никого, кто говорит по-китайски?» спросил Робин. Я что, единственный студент?
На лице профессора Чакраварти появилось странное выражение. Робин не должен был знать о Гриффине, понял он. Возможно, профессор Ловелл поклялся остальным преподавателям хранить тайну; возможно, согласно официальным документам, Гриффина не существовало.
Тем не менее, он не мог не нажать. Я слышал, что был еще один студент, за несколько лет до меня. Тоже с побережья».
«О — да, полагаю, был». Пальцы профессора Чакраварти беспокойно барабанили по столу. Хороший мальчик, хотя и не такой прилежный, как вы. Гриффин Харли.
«Был? Что с ним случилось?
Ну, это печальная история, на самом деле. Он умер. Перед самым четвертым курсом». Профессор Чакраварти почесал висок. Он заболел во время зарубежной научной поездки и не доехал до дома. Такое случается постоянно.
«Случается?»
«Да, в этой профессии всегда есть определенный... риск. Так много путешествий, знаете ли. Вы ожидаете отсева».
Но я все равно не понимаю, — сказал Робин. Конечно, есть множество китайских студентов, которые хотели бы учиться в Англии».
Пальцы профессора Чакраварти быстро сжались на деревянной доске. «Ну, да. Но сначала встает вопрос национальной лояльности. Не стоит набирать ученых, которые в любой момент могут перебежать на сторону правительства Цин, знаете ли. Во-вторых, Ричард считает, что... ну... Нужно определенное воспитание».
«Как у меня?»
«Как у тебя. В противном случае, Ричард считает. . .» Профессор Чакраварти довольно часто использовал эту конструкцию, заметил Робин, «что китайцы склонны к определенным природным наклонностям. То есть, он не думает, что китайские студенты хорошо акклиматизируются здесь.
Низкое, нецивилизованное население. «Понятно.»
«Но это не значит, что вы,» быстро сказал профессор Чакраварти. «Вы получили правильное воспитание, и все такое. Вы замечательно прилежны, я не думаю, что это будет проблемой».
«Да.» Робин сглотнул. Его горло было очень сжато. Мне очень повезло.
Во вторую субботу после приезда в Оксфорд Робин отправился на север, чтобы пообедать со своим опекуном.
Резиденция профессора Ловелла в Оксфорде была лишь немного скромнее, чем его поместье в Хэмпстеде. Она была немного меньше и имела всего лишь палисадник и задний сад вместо обширного зеленого, но все равно это было больше, чем должен был позволить себе человек с профессорской зарплатой. Вдоль изгороди у входной двери росли деревья, плодоносящие пухлыми красными вишнями, хотя вряд ли на рубеже осени вишни еще не поспели. Робин подозревал, что если он наклонится, чтобы проверить траву у их корней, то найдет в почве серебряные слитки.
Дорогой мальчик!» Он едва успел позвонить в колокольчик, как миссис Пайпер налетела на него, смахивая листья с его куртки и поворачивая его кругами, чтобы осмотреть его конопатую фигуру. «Боже мой, ты уже такой худой...
«Еда ужасная», — сказал он. На его лице появилась широкая улыбка; он и не подозревал, как сильно скучал по ней. «Как ты и говорила. Вчера на ужин была соленая селедка...
Она задохнулась. «Нет.»
«-холодная говядина-"
«Нет!»
«-и черствый хлеб.»
«Бесчеловечно. Не волнуйся, я приготовила достаточно, чтобы компенсировать это». Она похлопала его по щекам. Как жизнь в колледже? Как тебе нравится носить эти разлетающиеся черные мантии? Завел ли ты друзей?
Робин уже собирался ответить, когда по лестнице спустился профессор Ловелл.
Привет, Робин, — сказал он. Заходи. Миссис Пайпер, его пальто...» Робин пожал плечами и передал его миссис Пайпер, которая с неодобрением осмотрела испачканные чернилами манжеты. «Как проходит семестр?»
«Сложно, как вы и предупреждали». Робин чувствовал себя старше, когда говорил, его голос стал глубже. Он покинул дом всего неделю назад, но чувствовал, что постарел на годы, и теперь мог представить себя молодым человеком, а не мальчишкой. «Но сложная в том смысле, что приятная. Я многому учусь».