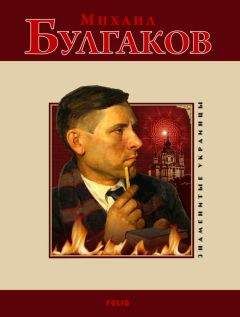Не дружески, конечно. Не допускал фамильярности. Но и не враждебно.
И я опять сбивал копыта своему игрушечному коню…
Этот рейд мне дался тяжелее всех предыдущих.
Не верьте болтовне дураков, что я наслаждался зрелищем чужих страданий. Нет. Нельзя, правда, сказать, что моя душа болела за каждого пропащего мужлана так же, как за Нарцисса, — но это и несравнимые вещи. Просто видя эти печи в грудах обгорелых бревен, этих коров, у которых ребра шкуру рвут, эти поля с тощей пожелтевшей зеленью — я же понимал, куда это ведет. Я видел — будет страшно трудная для мужиков зима. И я их жалел, действительно жалел, поэтому и вытряхивал тайники у баронов, поэтому и вешал на деревьях вдоль дорог гадов, которые драли со своих мужиков лишку.
Я знаю, что этого мало. И видел потом бедолаг, ушедших из своих жилищ на поиски еды, — скелеты вроде моих гвардейцев, душа еле держится между костями, еле тлеет надежда выжить. Но что я мог сделать для всех?
Над нами Бог.
Я знаю, что стоило мне покинуть город или поселок, как там все начиналось снова. Я не верил, не верил, не верил никому. И по-прежнему не швырял нищим пятаки, тем более что прекрасно понимал: эти пятаки и ломтя хлеба не стоят по нынешним временам. И по-прежнему был для своих подданных сущим кошмаром. Но что с этим сделаешь…
Плата.
В тот год Те Самые поживились изрядно. Им мало оказалось забрать у меня Нарцисса — мужланы орали мне вслед, почти не скрываясь, — наверное, от отчаянья осмелели: «Это ты прогневал небеса, король! Землю собой поганишь, некромант, Бог тебя покарает!»
Меня держал в седле только Дар, питаемый тоской и злостью. Мои жандармы падали в обморок от жары. Только скелетам все было нипочем в их латах, раскалявшихся за день, как сковорода на плите. И поступь лошадей, набитых опилками, не тяжелела в зной, гнущий к земле, — когда кони жандармерии ускоряли шаг, приближаясь к колодцу, и пили, пили, пили без конца…
А изнуряющая жара и пыльные дороги дня сменялись душными ночами и запахом гари. И мне казалось, что конца этому не будет.
В самый разгар этого адского пекла вышла странная история, на которую меня, конечно, толкнула тоска… Но слишком уж в ней отпечатались лапы Тех Самых Сил…
Я отдыхал в придорожном трактире. Мужиков оттуда выдуло, вокруг меня сидели скелеты, постепенно остывая, а я пытался есть тощую курицу, скончавшуюся, как видно, от солнечного удара. Жандармы тоже отдыхали, поили лошадей, приводили себя в порядок — купались, счастливцы, в мелкой и грязной местной речке.
Иногда искупаться — такое искушение… Одна беда — я плавать не умею. Негде было научиться и некогда — так что ж срамиться? Так что, когда добрые люди говорили при мне о прелестях купания, я делал вид, что не для нас, королей и некромантов, такие низменные удовольствия. Скрывая за надменной миной тяжелый вздох.
Итак, я отдыхал, когда в трактире появился бригадир жандармов. Принес свежие новости.
— Вы, государь, уж простите, что осмеливаюсь беспокоить, — говорит, — да уж больно забавно. Тут в соседней деревне мужики словили ведьму. Ей-богу, настоящую, говорят, ведьму — и спалить ее хотят. Может, вам любопытно взглянуть?
— Костер — не самое большое удовольствие в такую погоду, — говорю. — Тем более когда на нем жгут человека. Будет сильный жар и мерзкий запах. И вот перебросится искра с костра на их избы — будет им посмертная месть ведьмы.
Жандарм ухмыльнулся.
— А что? Да ладно. Ребята пошли полюбопытствовать. Молодая бабенка, говорят. Может, и предрассудок, конечно. Но все равно интересно.
Видит Бог, мне ни капли не хотелось влезать в дурные дела мужичья и смотреть на эту горелую ведьму в свои недолгие свободные часы. Но мои люди меня готовы были из самых благих побуждений тянуть развлекаться на веревке.
У меня сложились неплохие отношения с охраной. И я счел необходимым принять их приглашение.
Так что пришлось оставить бедную курицу в покое, выпить тошнотворно теплого эля и дать знак скелетам, чтобы сопровождали меня. Да не так уж это много времени и заняло — соседняя деревня оказалась не более чем в десяти минутах быстрой скачки от трактира.
Девку, которая голосила на всю округу, привязали к стволу дерева с обрубленной кроной и обкладывали хворостом. За околицей — вероятно, из соображений безопасности деревни от пожара. Смешно, действительно. Она не имела ни капли Дара, эта дурища. Обычная деревенская девка, молодая и, возможно, миловидная, когда не заревана и не перепугана до смерти. А эти охотники за ведьмами разбежались в разные стороны, как только завидели мою свиту. Остался священник — и даже имел твердость не кинуться носом в пыль. Наверное, по слабости зрения не разглядел у моей гвардии черепов под забралами.
Еще забавнее.
Я спросил его с коня:
— С чего вы все взяли, что она ведьма?
Этот хам в балахоне Святого Ордена посмотрел на меня довольно-таки враждебно — вероятно, решил, что его сан защищает. Ну да!
— Она вызвала в деревне мор среди овец, — говорит. Довольно неохотно.
— Ужасно, — говорю. — А каким образом?
— Всем известно, — отвечает. Хмуро. — Если в день Святой Леноры какая-нибудь незамужняя девица будет ходить босой и простоволосой — Господь накажет падежом овец. А эта ходила — все видели.
— Ладно, — говорю. — Отвязывай ее.
Он поразился, как это я приказываю такую вещь священнику. И даже попытался что-то бурчать, но я сказал:
— Ведьма она фальшивая, зато я — твой настоящий король. И настоящий некромант.
Не уверен, что поп оценил первую часть этой реплики. Но он точно понял вторую. Отвязывал, ворча что-то сквозь зубы, — и я вытянул его мечом плашмя, чтобы не смел вякать на свого короля.
А девку, которая вцепилась в столб мертвой хваткой, когда ее хотел поднять в седло скелет, я велел отцепить и взять к себе живому гвардейцу. Оставь ее тут, думаю — так ведь все равно сожгут. Мало им смертей, уродам…
Ее звали Марианной.
Мужичка, сущая мужичка. Но выглядела довольно приятно. Сильная такая, плотная. Грудь красивая, ноги длинные — юбки деревенские девки носят короткие, еле колени прикрыты, и видно, что мускулы на ногах — как у юноши, а все равно смотрится иначе. Округло.
Лицо простое, совсем простое, круглое, черное от загара, нос округлый, курносый и глаза круглые. И эти крапинки на носу, как на перепелином яйце, — то, что плебс называет веснушками. Разве что — роскошные ресницы, хоть и белесые, и волосы чудные.
Ворох блестящей соломы. Коса толстенная. Самое лучшее во внешности — коса.
Возраст простушек я определять не умею. Лет восемнадцать ей, наверное, сравнялось. А может — меньше. А может, немного больше. Свеженькая.