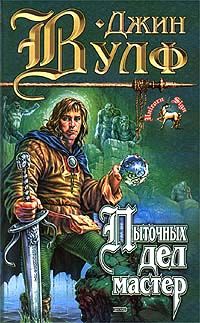– Пока ты говорил со стариками, – начал Иона, – меня расспрашивала целая семья. Там были несколько старых женщин, мужчина лет пятидесяти, другой мужчина лет тридцати, еще три женщины и целый выводок детей. Они привели меня в собственную нишу в стене. Другие узники не могли туда зайти, не получив приглашения, а такового не последовало. Я ждал, что мне станут задавать вопросы о друзьях на воле, о политике или же о войне в горах. Но оказалось, что им нужно от меня просто что-то вроде развлечения. Они желали послушать о реке, о том, где я побывал, и многие ли одеваются так же, как я. И еда – они очень много говорили о еде на свободе. Некоторые вопросы просто поражали своей нелепостью. Видел ли я когда-нибудь скотобойню? И просят ли животные не убивать их? И правда ли, что те, кто делает сахар, держат при себе отравленные мечи, чтобы охранять свой товар?..
Они никогда не видели пчел. Считают, что пчелы размером с кролика…
Потом я сам стал их расспрашивать и выяснил, что никто из них, даже старухи, никогда не были на воле. Просто мужчин и женщин держат здесь вместе. По закону природы они производят на свет детей. И хотя некоторых потом забирают, большинство остаются здесь на всю жизнь. У них нет ни собственности, ни надежды на освобождение. Они даже и не знают, что такое свобода. Только старик и одна из девушек совершенно серьезно заявили о своем желании побывать наверху, но мне показалось, что они не имели при этом в виду остаться там. Старые женщины – по их заверениям, седьмое поколение узников, но одна из них обмолвилась, что ее мать тоже из седьмого поколения.
В некоторых отношениях они довольно примечательные существа. Внешне они плоть от плоти этого подземелья, где провели всю жизнь. А все же… – .
Иона умолк, и я почувствовал, как давит на нас наступившая тишина.
– Наверное, это можно назвать фамильной памятью. Традиции, передаваемые из поколения в поколение от вольных предков. Они уже даже не понимают значения некоторых слов, но продолжают цепляться за традиции, предания, потому что предания и имена – это все, что у них есть.
Наступило молчание. Я погрузил тусклую искорку Когтя в голенище. Вокруг нас сгустилась непроглядная тьма. Затрудненное дыхание Ионы было похоже на звук мехов в кузне.
– Я узнал имя первого узника – того, от которого они ведут свой род. Это был Кимлисунг. Тебе приходилось слышать такое имя?
Я ответил, что не приходилось.
– Или какое-нибудь похожее? Представь себе, что это не одно, а три слова.
– Нет, ничего похожего, – ответил я. – У большинства из известных мне людей имя состоит из одного слова, как у тебя, если только другая часть имени не титул или что-то вроде клички, которая прижилась, потому что слишком уж много развелось Болканов, или Альтосов, или прочих.
– Ты однажды сказал, что у меня как раз необычное имя. Так вот, имя Ким Ли Сунг было самым что ни на есть обычным в те времена, когда я был… мальчиком. Ты слыхал что-нибудь о моем корабле, Северьян? Он назывался «Счастливое Облако».
– Поисковый корабль? Нет, но…
Мой взгляд уловил зеленоватое мерцание, такое слабое, что даже в полной тьме оно было едва различимо. Сразу же послышались бормочущие голоса, многократно отражавшиеся от стен огромного низкого зала. Я почувствовал, что Иона вскочил на ноги. Последовав его примеру, я едва успел выпрямиться, как глаза пронзила вспышка голубоватого пламени. Никогда в жизни я не ощущал такой боли – казалось, все лицо рвется на куски. И если бы не стена, я не удержался бы на ногах.
Где-то дальше темноту снова прорезала вспышка, закричала женщина.
Иона изрыгал сдавленные проклятия – во всяком случае, судя по интонации, потому что слов я не понимал. Его башмаки скребли пол. Снова ослепительный блеск. Я узнал те похожие на блеск молний лучи, которые видел, когда мастер Гурло, Рош и я пытали Теклу на «революционизаторе». Несомненно, Иона кричал так же, как и я, но в это время начался такой бедлам, что я не различил его голоса.
Зеленоватое мерцание усилилось. Я смотрел на него, парализованный болью и охваченный таким ужасом, которого мне никогда больше не доводилось испытывать. Свет постепенно обретал форму чудовищного лица, вперившего в меня свои гигантские глаза-блюдца, а потом снова потускнел и растворился в темноте.
Все это было неизмеримо страшнее, чем способно передать мое перо, и мне предстояло на всю жизнь остаться рабом пережитого ужаса. То был ужас перед болью и перед слепотой, хотя мы и так уже были слепы ко всему мало-мальски разумному. Стояла кромешная тьма, а никто из нас не мог ни зажечь свечи, ни даже высечь огня. Вся огромное помещение вопило, стенало и молило о помощи. И сквозь дикий вой я явственно услышал чистый молодой женский смех. Потом он умолк.
Я жаждал света, как умирающий от голода жаждет куска мяса. Наконец, я вспомнил о Когте, или скорее это он будто бы вспомнил обо мне, потому что рука моя сама собой просунулась в голенище и извлекла его.
И сразу боль утихла, все озарилось потоком чистого лазурного света. Крики стали еще громче, потому что для злосчастных обитателей темницы это сияние могло означать лишь новый кошмар. Я спрятал Коготь, стал ощупью искать Иону.
Он лежал скорчившись, шагах в двадцати от нашего места, но был в сознании. Я оттащил его назад (он показался мне удивительно легким) и, укрыв нас обоих своим плащом, коснулся камнем его лба.
Через непродолжительное время он сел. Я сказал, что тот ужас в камере, чем бы он на самом деле ни являлся, развеялся, и мы должны отдохнуть.
Иона выпрямился и стал бормотать скороговоркой:
– Надо запустить компрессоры, пока еще можно дышать.
– Все хорошо, – попытался я успокоить его. – Все хорошо. Иона. – Сам презирая себя за это, я разговаривал с ним, будто с самым младшим из учеников, как когда-то, давным-давно, говорил со мной мастер Мальрубиус.
Что-то холодное и твердое коснулось моего запястья, оно двигалось, как живое. Я схватил его – это оказалась железная рука Ионы. Потом я понял, что он пытается стиснуть ею мою руку.
– Я чувствую тяжесть! – Его голос становился все громче. – Должно быть, это сигнальные огни. – Он повернулся на бок. Я услышал скрежет его руки на полу.
Потом он стал гнусаво выкрикивать односложные слова. Этого языка я никогда не слышал.
С великой надеждой я достал Коготь и снова приложил его ко лбу Ионы. Камень был тусклым, как в первый раз, когда мы смотрели на него этой ночью, а Ионе не стало легче, но постепенно мне кое-как удалось успокоить его. Наконец, когда самые неспокойные из наших соседей – и те уже давно затихли, мы тоже провалились в сон.