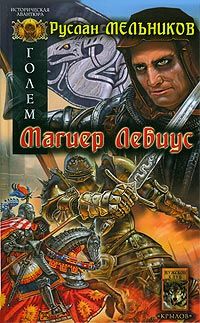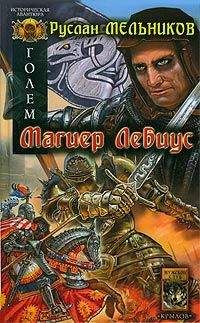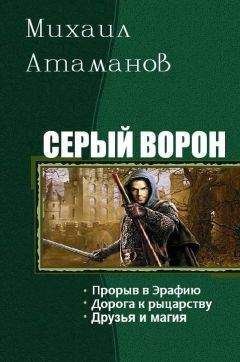– Ну, светлость, ты дае-е-ешь!
– Сипатый здоровый был, как бык, а ты ему руку этак вот, об решеточку…
– Ловко, светлость!
В одобрении неприятного подземного народца Дипольд не нуждался. Наоборот. За подобную фамильярность он готов был снова и снова ломать руки, ноги, шеи… Но – вот беда – некому. Соседи из клетки справа опасались приближаться к разделительной решетке и благоразумно помалкивали. Зато остальные, невидимые во тьме и тьмою же защищенные, язык на привязи держать явно не собирались. Опять знатного пленника в открытую обсуждали несдержанной базарной многоголосицей. Наглой и глумливой. Обсуждали, задевали, оскорбляли. И становилось ясно: расправой над одним ублюдком других здесь не утихомиришь. Не дотянешься потому как!
– Силен, сиятельство!
– Да только клетку-то, небось, не осилишь.
– Ага! Прутики железные не раздвинешь, решеточку не сломаешь.
– Гы-гы-гы!
– Слышьте, а он снова молчит.
– Это от гордости. Сипатого одолел, вот и пыжится.
– Да, гордый наш графишко.
– И горячий к тому ж сверх всякой меры.
– Только в том здесь, твоя светлость, проку мало. А бед – много.
– Потому как не любят здесь гордых да горячих.
– Нет, гляньте, он вообще разговаривать не желает!
– Эй! Решил, Сипатого покалечил – и мы тебя за то в покое оставим?
– Подумаешь! Одну руку сломал, так рано или поздно другая до тебя дотянется. Тут у нас рук много, слышь ты, светлость. А знаешь, сколько сипатых таких по клеткам сидит?
– А сколько сидело?
– А сколько еще сидеть будет?
Недобрые насмешливые голоса гомонили в темноте без умолку, перебивая друг друга. Мешая отдохнуть, расслабиться, собраться с мыслями, обдумать…
И Дипольд не выдержал. Да, решил не вступать в пререкания, но… Сколько ж можно?!
Сорвался-таки. Рявкнул что было сил:
– Заткнитесь! Все! Живо!
– Итесь-итесь-итесь-итесь!.. – эхом пронеслось под подземными сводами – Се-се-се-се!.. Во-во-во-во!..
И глумливый хохот в ответ. Издевки, насмешки, обидные выкрики стали громче, изощреннее.
– Этим вы здесь ничего не добьетесь, благородный господин, – тихий, едва слышимый шепот шелестнул сзади. Прямо за спиной. Там, где не было, где не должно было быть ни единой живой души.
Слова были сказаны в самое ухо пфальцграфа. На расстоянии уже не копейного удара, не клинка в вытянутой руке. На расстоянии тычка кинжалом.
От неожиданности Дипольд подскочил, подлетел – будто турнирный реннтарч, подброшенный вверх мощной пружиной. Звякнула цепь на ногах. Пфальцграф замахнулся, готовый ударить любого… любое порождение обманчивого полумрака.
– Не надо меня бить, – поспешно попросили его. – Я не желаю вам зла и не намерен над вами смеяться.
Говорила, как выяснилось, куча тряпья в соседней клетке. То, что Дипольд до сих пор принимал за груду старой ветоши, зашевелилось, сбрасывая с рваных одежд рваное одеяло, принимая человеческий облик, приваливаясь к разделительной решетке, подле которой пару секунд назад сидел сам пфальцграф. Там, за толстыми ржавыми прутьями, тоже скрежетнули цепные звенья.
– Мне с вами делить нечего, – просительно продолжал незнакомец. – И завидовать мне нечему. У вас своя клетка, у меня – своя. Я вам не враг, ваша светлость. И я не любопытен, так что досаждать расспросами не стану, зато смогу поделиться тем, что знаю сам.
Куча тряпок, неожиданно обернувшаяся человеком, говорила так, как и должно разговаривать простолюдину со знатным господином – уважительно, подобострастно, с опаской. В устах этой человекообразной кучи «ваша светлость» звучало без раздражающей насмешки. Возможно, поэтому Дипольд и не ударил сразу, машинально. А после уже смог с собой совладать.
– Ну, ладно, – пфальцграф снова уселся на солому – подле соседа, отделенного железными прутьями. По крайней мере, от этого несло зловонным тюремным духом не так сильно, как от тех, слева. И настроен он, похоже, миролюбиво. И рассказать, действительно, сможет что-нибудь полезное. Только вот не умолкающие глумливые голоса из темноты мешали спокойно поговорить.
Втянув сквозь зубы побольше воздуха, Дипольд повернулся к стене мрака. Заковыристое ругательство уже готово было сорваться с уст.
– Не нужно этого делать, ваша светлость, – неожиданно остановил разъяренного пфальцграфа незнакомец.
Тихая, но убедительная просьба прозвучала в его словах. Просьба знающего человека, просьба, похожая на благоразумный совет.
– Если хотите, чтобы они, – рука соседа неопределенным жестом обвела темноту вокруг, – замолчали, просто не давайте им повода обсуждать себя. Не деритесь, не ломайте им рук, не огрызайтесь, не сотрясайте понапрасну решетку и воздух. Чем громче здесь кричишь, чем беспокойнее себя ведешь, чем яростнее мечешься по своей клетке, тем больше их потешаешь…
Голос у незнакомца был мягкий, увещевающий. Таким говорят с капризными детьми. Или с бесноватыми.
– Когда сильно шумишь, они думают, что видят твою слабость и отчаяние, и от того глумятся еще больше. Если же не обращать на них внимания, если дать понять, что их слова не трогают и не задевают, им надоест зубоскалить. Рано или поздно, но обязательно надоест.
Дипольд шумно выдохнул. Гейнский пфальцграф решил внять разумному совету. Стараясь игнорировать обидные выкрики из темноты, он долго и внимательно всматривался в собеседника. Света из двух (одно – в камере пфальцграфа, другое – в клетке справа) маленьких окошек под потолком оказалось достаточно, чтобы разглядеть лицо соседа. Жуткое изувеченное лицо. Во всю правую половину бугрился след от сильного ожога. Кожа с мясом в свое время слезла здесь, небось, аж до самой кости. Удивительно, как вообще такая рана зажила. Мало того – чудом уцелел глаз. Впрочем, уцелел ли? Правое, лишенное век око словно всажено, словно вживлено в опаленную глазницу заново. И смотрит как чужое – не моргая, изучающе-бесстрастно.
То же и правое ухо – будто с другого человека срезанное. Да, определенно, правый глаз и правое ухо не были похожи на левый глаз и левое ухо. Может, беднягу так врачевали, а может, зачем-то пользовали магией. Какие-нибудь опыты Лебиуса? Не исключено…
– Ты кто? – глухо спросил Дипольд.
Кривая усмешка на сгоревших наполовину губах. И лишь потом ответ:
– Часовщик. Когда-то меня звали Мартин-мастер. Теперь я слуга его светлости господина маркграфа Альфреда Оберландского. Слуга и вечный раб. По прозвищу…
– Эй, Вареный! – донеслось из темноты злое и насмешливое. – О чем ты там со светлостью шепчешься?! Громче говори – нам тоже послушать охота!
Вареный, выходит, Мартин-мастер. Дипольд хмыкнул. Это, вообще-то, не прозвище – кличка. Но точно и метко данная.