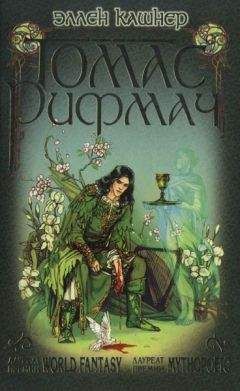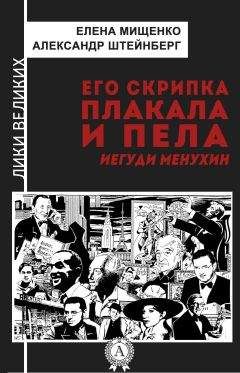— Наверное, новая. Ее последней я пел… — он не договорил и принялся яростно месить тесто, словно ненароком проболтался.
— Где пел-то? — спросил Гэвин. Таких страданий он отродясь не ведал.
— В зале. Где пришлось петь.
Рифмачу явно не нравились подобные расспросы. Я начинала догадываться, в чем дело, и не очень-то меня радовали эти мысли.
Гэвин зашел с другой стороны.
— А знаешь, тут твой приятель цыган пару раз заходил, все про тебя спрашивал, никак не хотел верить, что мы не знаем, куда ты подевался. Даже грозился власти на нас напустить, — Том улыбнулся. — А когда и это не помогло, предложил нам серебряное кольцо, чтобы мы показали ему твое убежище, а еще лучше — кое-что тебе передали.
— Помочь мы ему ничем не могли, но он все равно оставил кольцо у нас, — объяснила я. — Сказал, что следующей весной заглянет. Только с тех пор прошло четыре года.
Я вымыла руки и пошла к печке — у нас там в закутке кирпича не хватает, вроде как тайник — вытащила тряпицу. Серебро потемнело от времени.
— Мрачнее ада, — проговорил Томас, едва коснувшись его. — Оно — с руки Лилиас Драммонд. В несчастье, в скорбях, беременная четвертым ребенком, думая о том, что Эррол ее не любит, а семья его убила меня, отдавала она это кольцо… — Он стиснул кольцо в кулаке и поднял голову. Лицо у него стало пепельно-серым. — Она мертва.
Я высвободила кольцо у него из пальцев и быстренько убрала с глаз, засунула в карман фартука, и все.
— Ты точно знаешь? — спросила я, лишь бы он ответил что-нибудь и вышел из своего столбняка.
— Конечно, точно. Она умерла родами. Это была девочка. Проклятый Бевис!
— Он же не знал, — сказала я, сама удивляясь тому, что защищаю цыгана. — Он хотел помочь ей.
— Зато теперь знает. Понятно, почему он не возвращался больше — зачем, раз Лилиас умерла? Вы ведь сказали ему, что я пропал, почему же он не поверил? — Томас почти требовал ответа.
— Из-за арфы, — объяснила я. — В первый раз как пришел, он увидел твою арфу. Ну и решил, что ты, значит, неподалеку. А потом пришел второй раз, арфа все еще здесь была, не могли же мы ее продать…
— Да только я-то ему сказал, что продали! — встрял Гэвин. — Но этот разбойник никому на слово не верит…
— Ты — честный человек, — сказала я мужу, — вот он и понял, что ты пытаешься соврать. Да-да, Том, здесь твоя арфа. Я ее завернула, чтобы холод или сырость не попортили.
Я поднялась на чердак и, пока по лестнице лезла, все время ощущала кольцо этой бедной Лилиас Драммонд. Том сначала принял у меня арфу, словно дитя малое, и только потом попридержал лестницу, чтобы мне способней слезать было.
Он осторожно развернул свое сокровище, зажмурился и чуть-чуть подержал арфу на коленях, потом поднял руки и заиграл.
Звук был ужасный: слабые, провисшие струны завыли не в лад. Томас вскочил, как ошпаренный.
— Она расстроилась! — в ярости крикнул он. — Проклятая деревяшка никуда не годится!
— Что ж, у тебя и ключа для настройки при себе нет? — раздумчиво спросил Гэвин. Глаза у арфиста вспыхнули.
— Конечно, нет! Сколько лет он мне вовсе не нужен был!
У меня аж сердце заболело, когда он начал проклинать арфу, которую раньше так любил.
Он поднял инструмент над головой, словно в арфе была причина всех его бед. Я протянула руку, удерживая его.
Внезапно Томас повернулся и посмотрел в окно на далекие холмы.
— Только не сейчас, — с болью заговорил он. — Зачем же сейчас? — Мы сидели, как ледяные. — Вам, поди, нравится, — заговорил он снова, и в голосе еще звучала ярость. — Или вы ничего не слышите?
— Слышим? Нет, ничего.
— Трубы! Эльфийские трубы! Всадники гонят какую-то добычу. — Он наклонил голову, словно прислушиваясь. — Может, чью-то бедную душу травят.
— Том, милый, — сказала я, поднимаясь, чтобы откинуть с его с лица непослушные волосы, — это же морок. Дай-ка мне арфу и посиди спокойно.
Он только головой качает.
— Тут вы ничем не поможете.
— Запру двери, — с угрюмым видом говорит Гэвин. — Во второй раз они тебя не получат.
— Вы не понимаете… оно все еще со мной, Я ушел, но все такое чужое… О Мэг, — он вдруг взял мое лицо в ладони, но, по-моему, даже не видел меня, — Мэг, у меня были фонтан и сад, полный цветов… И такие одежды, и лошади, и драгоценности, и огни, каких вы отродясь не видывали…
— Все прошло, — я своими руками прижала его ладони, — все уже прошло. Оставайся с нами.
— Мэг, — он взглянул на нас почти с мольбой, — Гэвин, вы и правда хотите, чтобы я пожил у вас?
Гэвин глядит на меня, а у меня в глазах слезы, вот-вот разревусь, как девчонка.
— Мне всегда хотелось, чтоб ты жил с нами, — сказала я и поняла, что человек, который говорит одну правду, по крайней мере знает, когда и другие ее говорят.
* * *
После ужина Томас час с лишним все арфу настраивал, но играть не стал. Мы даже обрадовались, когда он, наконец, забрал одеяла и улегся спать на свое старое место у огня.
Уже в постели Гэвин мне шепнул:
— Как ты думаешь, он не свихнулся?
Я рассердилась, кулаком его в бок ткнула.
— Вот сам у него и спроси.
Я отвернулась, спать собралась, даже говорить не стала, что Томас на лицо ничуть не изменился. Гэвина этим не проймешь.
На следующее утро Томас куда больше походил на человека. Волосы спутанные, глаза припухшие, щеки явно требуют бритья. Он встал вскорости после меня и побрел к ручью. Вернулся продрогший.
— Иней так и лежит на траве, — говорит он, вытираясь. — Очень красиво. Только почему же здесь так холодно?
— Заморозок, — бросил Гэвин.
— А? — заморгал Томас. — И правда. Послушайте-ка, я хотел сказать, что мне очень стыдно за то, как я вчера…
— За вчера, — сказала я и брякнула на стол перед ним миску с кашей, — ты и так наизвинялся больше, чем за всю прошлую жизнь. Если извинишься еще раз, смотри, окуну в кашу.
— Мне почти тридцать, — говорит он вдруг, не поднимая головы от миски. — Разве не странно?
— Вообще-то, странно, — сухо говорю я. — И что же сохранило твою юношескую красоту?
— Заклять… О черт. Хватит об этом.
— Хватит, — подтвердила я. — Давайте-ка без вопросов.
— Не тревожься, — мрачно говорит он. — Ты ведь тоже не особо изменилась.
Он снова задрожал: отвык от холода, а ведь сейчас только осень. Я подкинула в огонь еще торфа. Надо поискать ему одежду потеплее.
День был пасмурный, в воздухе пахло зимой. Мы втроем все утро возились в доме, Гэвин ткацкий станок налаживал, Томас пытал свою бедную арфу, так что даже мне ее жалко стало, и тут Гэвин откладывает челнок и говорит: