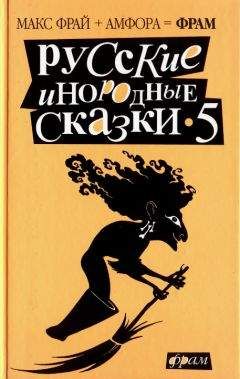Я достала ему «которая со щенками», себе взяла одну из «штатских» (в смысле, из Штатов, Соединенных Штатов Америки) с коллажом из видов прекрасного города Вашингтона. Поставила обе чашки на стол, открыла сахарницу, заварочный чайник из холодильника вытащила. Он в это время разламывал коробку с тортом: отколупывал скрепки с боков, распрямлял картонные борта, чтобы удобнее резать и брать было. Вынул ножик из кармана, покромсал кулинарное изделие огромными кусками. Один кусок, не дожидаясь чая, надкусил (кусочек шоколадной корочки упал на пол), второй засунул в рот собаке. Она заглотила торт одним махом, шумно и довольно задышала.
Я налила чай, пододвинула ему чашку, сахарницу, села напротив. Он захватил сразу кусочков пять сахара, полюбовался на них, сказал «ух, ты» (у меня сахар смешной: цилиндрической формы и разноцветный — оранжевый, зеленый и желтый). Наглядевшись, бросил в чашку, начал размешивать ножиком своим перочинным: я забыла дать ему ложечку. Шумно отхлебнув, покачал головой, добавил еще два кусочка. Снова попробовал, остался доволен.
— Как мама? — спросил он, выпив полчашки. — Не болеет?
— Ничего, — вежливо ответила я. — Сердце иногда пошаливает, но, в общем, ничего.
— Ты за ней следи, я-то не всегда успеваю.
— Слежу.
— Ну, а вообще как дела?
— Нормально.
Он доел третий кусок (не забыв поделиться с собакой, которая, судя по блаженному выражению на морде, готова была пойти за ним на край света хоть сейчас) и встал из-за стола. Потянулся, хрустнув суставами, прошелся по кухне. Заметил на одной из полок губную гармошку, потянулся за ней.
— Не надо, — сказала я. — Собака выть начнет, а уже поздно, соседи спят.
Вместо ответа он облизал губы, приложил к ним гармошку и издал тихий гудящий звук. Собака подняла голову, пошевелила правым ухом, прислушиваясь. Откликнулась тихонечко. Он сыграл два такта, она подвыла точно в тон.
Музыканты, блин. Что я соседям скажу?
Они сыграли и провыли мне «Oh, Susanna», «My Bonnie», «Amazing Grace» и еще какую-то мелодию из арсенала начинающего гармошечника, название которой я забыла. Закончился маленький ночной концерт торжественным исполнением гимна Советского Союза, причем если предыдущие песенки моя собака слышала, когда я старательно пыталась надуть их сама, то откуда она знает мелодию гимна, я ума не приложу.
— Браво, — сказала я, посвящая это больше тому, что соседи так и не начали ни выламывать мою хлипкую дверь, ни даже гневно стучать в стены.
— Ну, ты чего? — вдруг грустно спросил он, откладывая гармошку и присаживаясь за стол. — Чего ты?
— Ничего.
— А почему ты в меня больше не веришь?
Я не смогла честно ответить ему на этот, в сущности, простой вопрос. Отчасти оттого, что говорить такое, смотря при этом Ему в глаза, достаточно глупо, отчасти оттого, что и сама до конца не понимала — почему. Так получилось.
— Так получилось, — сказала я и подумала, что более идиотского ответа он, наверное, и не слышал никогда. Ща-ас как обидится.
Но он не обиделся, улыбнулся ласково.
— Дурында, — сказал, и потянулся за чайником.
Я кивнула. Дурында, чего уж там.
Он налил нам остывшего чаю, положил в свою чашку сразу восемь цилиндриков сахара (четыре оранжевых, три зеленых и один желтый), взял два куска торта — один себе, другой отдал собаке.
— Извини, — сказала я.
— Да, ладно, чего там, — отмахнулся он, жуя. — Я же понимаю. Я поэтому и пришел.
— А? — глупым голосом сказала я.
— Ага, — вздохнул он, а больше ничего не добавил.
Но я, кажется, поняла.
Через пять минут он встал с табуретки, стряхнул на сопящую от счастья собаку крошки, потянул на себя пакет (в нем снова раздалось дзиньканье и бульканье), сказал:
— Ладно, я пошел. Пора мне.
— Не уходи, — попросила я. — Не уходи.
— Надо. Не сердись, — сказал он. — Не сердись.
Уже на пороге, когда он обувался, я спросила:
— Можно задать тебе один вопрос?
— Валяй, — разрешил он, завязывая бантиком шнурок на левом ботинке.
— Что у тебя в пакете?
Он глянул на меня исподлобья, усмехнулся.
— Да, вот, — ответил, — тут у вас в седьмом доме чувак живет. Бизнесмен. Через час решит покончить с собой. А он ничего, кроме коньяка, не потребляет, понимаешь?
Я кивнула.
Я понимаю.
Он выпрямился, притопнул ногами, проверяя крепость шнурков, поцеловал собаку, которая уже к этому моменту сидела на попе, внимательно наблюдая за его руками. Повозившись с замком (он у меня заедает, а починить руки никак не дойдут), открыл дверь, вышел на лестничную площадку. Подмигнул мне через плечо и начал спускаться по лестнице, тихонько насвистывая гимн Советского Союза.
Я немного постояла, слушая, затем закрыла дверь и пошла на кухню мыть посуду.
Александра Тайц
Мастер замков
Двери нашего дома всегда были открыты, а окна распахнуты, потому что так хотел дед. Ветер забирался в комнаты и сметал пыль с отцовских книг, маминого фарфора, взметал облачка золы вокруг кухонной плиты, заставлял прислугу придерживать занавески и спешно ловить разлетевшиеся по мастерской вечно мятые листы, на которых дед делал наброски к своему будущему лучшему полотну. Ветер шалил, бросал в окна пригоршни яблоневых лепестков или желтых листьев, дед, обреченный фокусник, быстро водил жирным карандашом по пойманному листу бумаги, мамины длинные платья завивались вокруг ног поземкой, а вечерами дом наполняли сладкие струйки от сигары, которую отец курил на балконе, вернувшись со службы.
Однако были и зимы. Тогда ветер приносил с собой сухую колючую поземку, задувал пламя камина, ерошил дедовы растрепанные седые пряди, заставлял поторопиться, и дед подвигал спиртовку поближе к баночкам с краской, глухо и решительно кашлял и заносил кисть на холстом, безупречным, как снежное поле за окном. Несколько раз я был невольным свидетелем этой сцены — и уже знал чем она закончится. Рука с кистью, наполненной самой лучшей, самой синей глазурью, тянулась к холсту, одержимая одновременно и желанием, и ужасом. Ужас всегда побеждал. Дед безвольно опускал руки и с кисти падали тяжелые синие слезы. Мама, я знаю, тоже частенько плакала, глядя на белый холст в мастерской, а нам, детям, рассказывали каким дивным портретистом был дед, как он был гениален и признан, В гостиной висел парадный портрет бабушки работы деда, и когда за обедом отец или мать принимались вспоминать о былой дедовой славе, бабушка удовлетворенно покачивала затянутой в темно-зеленую шапочку змеиной головкой, а ветер шевелил кружева ее пышного жабо. Дед слушал такие разговоры молча, потом резко вставал (все притихали), хлопал рукой по столу и тяжело ступая, молча уходил наверх. Позже я узнал, что задуманный им портрет должен был изображать Богоматерь, но груз оказался ему не по силам.