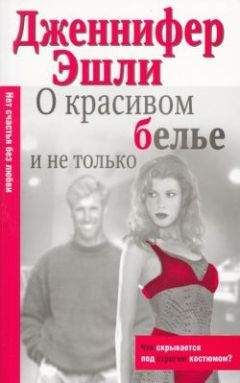Покусывая яблоко, выслушивая эту ерунду, Иван злился, потому что докучливые признания могилевского шкета забивали уши, преграждали еле слышный поток слов, произносимых в родительской комнате, там решалось что-то важное, его самого касающееся; пацан из Могилева - это уже начинало бесить - лупил в детстве глаза на то, что давно привлекало Ивана, с тех пор, как он раскусил хитрость мозга, умеющего сваливать в одну кучу, символом помеченную, абсолютно разные вещи, но - это он давно уже отметил - сколько бы трамваев разных маршрутов ни сводилось в понятие «трамвай», отличное от «автобуса», каждый вагон с дугою виделся все отчетливее. «Яблоко-то - гнилое…» - процедил он, спрыгивая со стремянки так, чтоб толкнуть могилевца, чтоб придавить шпендика, тощенького и робкого, не умеющего бросить камень в окно и смыться, - спрыгнул, убедился, что так оно и есть: да ни в одну компанию не примут двоюродного или троюродного братца, как был тот калекою, так и остался, а тут и сама могилевская родня зычно позвала Клима, в два голоса, в женском будто взметнулся ремень для порки; неожиданно заехавшие родственники чужими людьми стояли в коридоре, отказываясь от чаепития, ни улыбки на прощание, ни слова приветливого; отец хмуро молчал, мать - счастливо улыбалась, но Иван-то знал причуды ее, мать всегда возбуждалась неприятностями, однажды потеряла карточки на крупу - и хохотала до упаду. Закрылась дверь за родней, принесшей какую-то беду, и родители впервые в семейной жизни позвали сына к себе, на совещание, а тут и Никитин, за версту чуявший опасность, кулаком долбанул по двери, забыв о звонке. Ему и сыну было поведано о том, что в 1919 году хирург Баринов, попавший в плен к белым вместе с госпиталем и врачевавший всех подряд, и белых и красных, чего ни в одной анкете не скрывал, там, в белогвардейском тылу, встретил свояка, Ефрема Пашутина, белого офицера; ныне же Ефрем Пашутин, видный партийный начальник, царствует в Могилеве и не только не желает знаться с Бариновыми, но и готов отправить их в НКВД, если те переедут в подвластный ему город; у белых, услышал огорошенный отец, Пашутин был якобы по заданию подпольного ревкома («Чушь!» - заорал Никитин) и теперь предлагает мировую: Бариновы забудут о могилевских родственниках, нигде о них ни слова не скажут и не напишут, а он никому не доложит о том, что хирург Баринов не одного беляка вылечил… Мать звонко рассмеялась, никак не могла еще опомниться от встречи со сводной сестрой, изгнанной за что-то из семьи, Ивану же не забывалась просящая, виноватая улыбка двоюродного брата, названного Климом в честь легендарного наркома Климента Ефремовича Ворошилова, - знал, знал могилевский очкарик, что не с добром пришли его родители, потому и молил о прощении. «В Минск, в Минск уезжайте!» - забегал вокруг стола Никитин, уже строя планы будущей жизни Бариновых, и остановился, замер перед Иваном, стал вдалбливать: никому ни слова, надо быть чрезвычайно осторожным, страной управляют умалишенные с непредсказуемым поведением, пьяные с рождения хулиганы, таких нормальные люди обходят. «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» - вгонялись в Ивана правила жизни, а затем Никитин помчался на вокзал брать билет до Минска, куда и уехал в тот же вечер, отец же и мать до ночи сидели за столом, руки их были сплетены, с этого дня в них воссияла прежняя любовь, когда-то соединившая красного хирурга с уездной барышней; родители будто узнали, что заражены одной и той же смертельной болезнью, и решили не омрачать последние годы ссорами, упреками, ночными дежурствами отца и цветами от Никитина; отцу, правда, пошел уже пятый десяток, но мать по-прежнему ошеломляла мужчин, хотя и подувяла; в памяти Ивана мать всегда связывалась почему-то с белыми ночами Ленинграда, она была светом, потеснившим тьму, а Никитину мать смотрелась и тьмой, и светом.
Минск потому был выбран местом добровольной ссылки, что в Белоруссии, по мнению Никитина, главный удар НКВД обрушит не на врачей и педагогов, чекисты ежовыми рукавицами схватят писателей и поэтов - за то, что они чересчур восхваляют родную республику, и пророчества еще не сбылись, как в Ленинграде арестовали всю минскую семейку, поселившуюся в квартире Бариновых; квартира, это определенно, была уже помечена, родители признали правоту Никитина, гнавшего их вон из Ленинграда, они же и повели Ивана к математику, который со слов Никитина знал о ленинградском школьнике, как орехи щелкавшем уравнения всех степеней, и математик взял Ивана под свою опеку. Ленинград славен памятниками, зовущими в будущее; пустые глаза изваяний смотрят во все стороны света, безмерно расширяя пределы города на Неве; властители подпирают небо гордой осанкой, на собственные плечи взвалив груз чужих ошибок; руки их молитвенно сложены, мечтательно стиснуты или выброшены в указующем порыве, сжатый кулак демонстрирует способ, каким надо хватать врага за горло или гвоздить его по голове. В минской школе на первой же перемене Иван расквасил нос однокласснику, утвердил себя и возвысился в глазах тихих белорусских девчушек, будущих «наташек»; сын - студентом - повторил подвиги отца, неделями дежуря у постели девиц с короткими комсомольскими прическами, пока не надоело, пока, заночевав у одной медички, не раскрыл случайно учебник биологии и с замиранием сердца не прочитал о Грегоре Менделе. Этот работник монастырского фронта, как назвала его шаловливая студентка, жил почти отшельником, сан не позволял ему заглядывать в чужие окна и снаружи рассматривать внутреннее устройство добропорядочных семей, мимо него не топали солдаты в одинаковых кепи или касках, зато на грядках своего сада, делая опыты с горохом, он усомнился в истинности древнего речения о том, что подобное рождает подобное, совершил надругательство над самоопыляющимися подобиями, скрестив красноцветковый горох с белоцветковым, дети от этого брака оказались белыми, но четверть внуков родилась красными, что несколько разочаровало Ивана: раз есть точное количественное соотношение, то наследственные начала - дискретны, цельночисленны и, следовательно, подчинены математическому воспроизведению, даже если принять во внимание, что люди - не семейство бобовых, что свойства людей не ограничены цветом глаз и формою ушей. Какой-нибудь математик решит эту задачку, если еще раньше головоломку с различиями в сходстве и сходством в различии не разгадает Клим Пашутин, именно этим делом занятый в Горках, в тамошней Сельскохозяйственной академии, где его славили за успехи в учебе. Иван же учился на физмате Минского университета, хотя честно признавался себе: нет, не для математики родился он, для чего-то другого, потому что не было усидчивости, опекавший его профессор часто гневался. Однажды ночью пришел Никитин, ужом вполз в квартиру, шепотом сказал, что наступают, кажется, хорошие времена, квартира на проспекте Карла Маркса очищена от подозрений, никого из нее не берут, карающий меч притупился, но расслабляться нельзя, Ивану следует помнить все то же: «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» Пусть тезка героя гражданской войны, Клим Пашутин, усердствует и публикует умные, что ни говори, статьи о гетерозиготных мутациях, он, Иван, обязан жить тихо, не трезвонить, тиснул одну статейку о простых числах - и достаточно. Отец так был рад видеть единственного друга семьи, что до утра не отпускал Никитина, в темноте пили водку, а мать отдала другу руку, и тот водил ею по щекам своим, по губам. Квартиру Никитин покинул, надвинув шляпу на лоб, ссутулясь для изменения походки, он и в разговоре шепелявил, совсем уж сбивая со следа ищеек, и к вокзалу шел петляя. «В Горки - ни шагу!» - дополнил он свежим пунктом кодекс поведения и пропал из вида в предрассветных сумерках; тем и кончилась ночь, дивная ночь в жизни Ивана: одеяло, наброшенное на поющий патефон, громкое и пронзительное молчание любящих его людей, он - в разнеженном полусне и все они, скованные цепью не родства, а тайны.