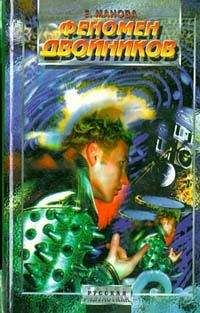И оставалось лишь просить у Вастаса позволения пройти вместе с матерью во внутренний сад.
…Дворик, где пахли цветы и журчала вода, и деревья ещё не осыпали вялые листья. Серый сумрак висел среди серых стен, и мать была все такой же девочкой в чёрном.
Кем он был, этот бог, который оставил её?
— Мама, — сказал он тихо, и голос его задрожал, потому что эта девочка — всё равно его мать. Она его родила и кормила грудью, и, пока могла, отгоняла страшные сны. — Мама, — спросил он, — как твоё имя?
Снизу вверх она глядела в его глаза, и в огромных её глазах было чёрное горе.
— Ещё не время, Торкас, — сказала она.
— Мама, — сказал он, — я уже многое понял.
Чёрное горе стояло в её глазах, но голос её был твёрд и спокоен:
— Догадываться — не значит знать. Нет, Торкас, — сказала она. — Не торопись. Побудь ещё моим сыном. Мальчик мой, — нежно сказала она, — не покоряйся, будь сильнее судьбы! Разве Вастас не любит тебя? В самый чёрный час он спас меня. Он заботился о тебе и воспитал, как родного сына. Разве ты не обязан отдать наш долг? Служи ему, защищай, унаследуй Такему и сбереги от врагов!
— Мама, я должен знать! Я выберу сам, но я должен.
— Выбора не будет, — сказала она.
Стоят и смотрят друг другу в глаза рослый воин и хрупкая женщина в чёрном. И только глаза их похожи — как мрак походит на мрак, огонь — на огонь и вечность — на вечность.
— Моё имя Аэна, — сказала она. — Я дочь Лодаса, одного из Двенадцати.
— Двенадцать?
— Двенадцать соправителей Ланнерана, — ответила она без улыбки. — Твой отец был Энрас из рода Ранасов, третий по старшинству. Он был человеком, но его сделали богом. Больше я тебе ничего не скажу.
Она повернулась и ушла, и он остался один. И он подумал: почему она моя мать? Почему другой такой нет на свете?
Лет десять, как он перестал ночевать в раоли. С тех пор, как начались страшные ночи. Слишком долго его вызывать из раоли, не то, что из комнат в Верхней башне.
А, может быть, вовсе не в этом дело. Жены его стареют, как и он сам, а Она, та, которую он так поспешно назвал сестрою, та, между которой и им только его честь и его слово…
Даже горечи нет в мимолётной мысли, как нет в нём сейчас волнения плоти. Он сидит, высокий, все ещё сильный; лишь седина облепила виски и морщины легли возле губ.
Жалкий огонь светильника корчится на столе, никнет и мается в тягостной духоте. Не хочется думать о раскалённой постели. Не хочется думать о том, что бродит вокруг. С тех пор, как наш край запрудили ночные твари, Такема в осаде каждую ночь. Пока мы заставили их присмиреть. В последнюю вылазку Торкас не дурно их проучил…
И чуть раздвинулись угрюмые складки у губ, чуть смягчился пронзительный взор. Торкас — не дитя моих чресел, но дитя души моей, сын бога — и всё-таки он мой. Он будет великим воином, и пусть иссякнет мой род, но не иссякнет слава Такемы…
Торкас… Все мысли о нем, и Вастас не вздрогнул, когда сам Торкас вдруг встал на пороге.
— Что случилось? — спросил он. — Тревога?
— Нет, отец.
И непонятное беспокойство: слишком мягко он это сказал. Торкас — суровый не по годам, он умеет таить свои чувства…
— Отец, — сказал Торкас и встал перед ним, и огромная чёрная тень потянулась под кровлю. — Я хочу тебя спросить.
— Что? — спросил он угрюмо. Неужели это свершилось? Неужели бог отнимет его?
— Я уже кое-что знаю, — сказал Торкас. Он дождался кивка и сел, и печальный огонь лампадки ярко вспыхнул в его глазах. — Я спросил у матери.
— Аэна — мудрая женщина, — грустно ответил Вастас. — Если она сказала — значит пора.
— Мой отец — ты, — сказал Торкас. — Ты меня вырастил и воспитал. Тот другой — только имя. Но всё равно я хочу узнать…
Мгновенная ярость: я не позволю тебе ожить! И твёрдая горечь: я уроню себя, если солгу. Бесчестно соперничать с мертвецом, а превыше чести нет ничего.
— Это не только имя, — ответил он. — Это было последней нашей надеждой… или предпоследней, мне этого знать не дано.
— Он сделал мать несчастной!
Да! Подумал он яростно, и я его ненавижу! Но ответил честно, как подобает мужчине:
— Его просто убили, Торкас. Не думаю, чтобы он желал ей такой судьбы.
— Так кто он был: человек или бог?
— Человек, но его сделали богом. Погоди, Торкас, — сказал он устало, — давай я расскажу тебе все. Я видел Энраса дважды, — сказал он, — но не мог с ним говорить, потому что был в Ланнеране тайно.
— Почему? — спросил удивлённый Таркас.
Он прикрыл глаза, сжал и разжал кулаки. Можно сказать: это моё дело. Можно солгать. Но не зачем открывать рот, чтобы сказать пол правды. И нельзя себя унижать, замарав ложью язык.
— Род Вастасов кончался на мне, — сказал он хрипло. — Я говорил с Ведающим и вопрошал Отвечающих, но имя своё я не назвал никому. Ланнеран полон жадных ушей и грязных ртов. Или я должен потешать ланнеранскую чернь своею бедою?
— Прости, отец.
— Я закрыл лицо, но не закрыл ни глаз, ни ушей. Я видел, как бурлит Ланнеран от вестей, принесённых Энрасом из Рансалы. Это были страшные вести, и я не знал, должен ли я им верить. Все, что я слышал, я слышал из третьих ртов, а рты в Ланнеране лгут. Суть этих слухов: Энрас вышел в море и встретил Белую Смерть. Белая Смерть уже сожрала все земли южнее Эфана и теперь подбирается к нам. Все мы обречены на гибель, но Энрас, кажется, знает путь к спасению. Правдой было одно: Энрас принят с великим почётом и Соправитель Лодас отдал ему дочь.
Меня это встревожило, Торкас. Род Ранасов не любили в Ланнеране. Они — бродяги и храбрецы, и городу трусов они непонятны. Коль Ланнеран готов породниться с Рансалой, значит, беда действительно велика.
Я захотел увидеть Энраса — и увидел. Я не мог с ним говорить, но я слушал, что он говорит другим. И я понял: с чем бы он не пришёл — это не сказки.
— Не все сторонятся лжи, отец!
— Он не нуждался в лжи. Телом он был могуч, лицом приятен, нравом спокоен и разумен речью. Я решил, что задержусь в Ланнеране, чтобы спросить его самого.
— Ну?
Он покачал головой.
— Не прошло и двух дней, как грянула новая весть. Энрас в руках блюстителей и будет казнён. Лодас сам выдал зятя Чёрным.
— Ну? — опять хрипло выдохнул Торкас.
Он не весело усмехнулся.
— Ланнеран обезумел, сынок. Уши слышали, а языки разнесли то, что Энрас сказал Лодасу, когда его уводили. «Несчастный, — сказал он будто бы, — теперь ты всех погубил.» Эти трусы мычали от страха и ждали казни, но никто не посмел напасть на тюрьму.
Поглядел на Торкаса и сказал угрюмо.
— Со мной было десять воинов, Торкас, Такема не может воевать с Ланнераном.