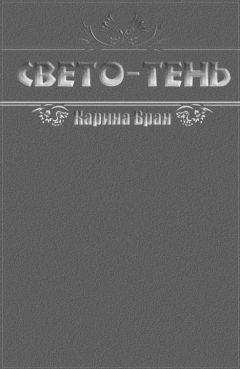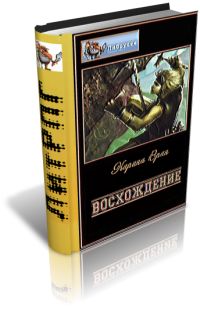Вскоре шуметь пришлось уже по делу: меня прицельно атаковала туча мошкары, и я отломил от какого-то деревца ветку с листьями, чтобы отмахиваться. Начал понимать, за что деревенские ценят и любят ласточек: те ловят на лету насекомышей, и мелкие кровопийцы меньше досаждают людям и домашним животным.
К мошке вскоре присоединились комары. Гудящие, крупные, голодные. Никаких средств защиты у меня с собой не было — не предусмотрел. Только и оставалось, что обмахиваться. Минус себе за забывчивость, а плату брали с меня моей же кровушкой особо рьяные насекомые.
Кроме меня и комарья, шумел еще и ветер. В лесу он был не так ощутим, зато поскрипывал затрухлявевшими стволами и листвою шелестел только так. Птицы, наоборот, притихли.
Я шел по тропке, лупил по плечам и спине своей веточкой. И вспоминал — просто, чтобы отвлечься — ночную беседу с Кошаром. После его сна и нашего совместного ночного перекуса я спросил его, почему мне с усилием даются малые лепестки пламени, а он может чуть ли не воздух воспламенять. Хотя я, по его же, Кошара, заверениям, должен повелевать любым огнем, во всех его проявлениях.
— Наклони головушку, — вкрадчиво сказал в ответ манул; когда я это пожелание исполнил, кошачья лапа постучала мне по лбу. — В этом дело. Разум в путах. Силушку вбухивать — тщета, ежели разума нету.
— Так красиво по моим умственным способностям давно никто не проходился, — хмыкнул я с легкой обидцей. — А как же: сила есть — ума не надо?
— Ты слишком людь, Андрей, — вздохнул овинник. — Мера на все — вбитая, как у всякого человека. Ты делаешь шаги в мир Ночи, но только ногами. И то, словно тать. Голова твоя в мире людском. Как сбросишь путы, как осознаешь но́чное бытие — все сменится. Тогда ты пойдешь не как тать, а как сильник, и потуги мои с шерстинами померкнут на фоне великого твоего жара.
— Неужели нельзя слова попроще подбирать? — я потер виски: перенервничал, голова разболелась. — Молоко прокиснет, если ты вдруг станешь выражаться понятным мне языком?
— Привыкай верить в себя, — махнул лапой Кошар. — Сходу пламень до небес вызывать не стоит, но научиться принимать суть свою ты должен. Для того мы и здесь — учить тебя скидывать путы.
— Инакомыслию? — ввернул и я занятное словцо.
— Познаванию.
Мы еще немного поперекидывались словами прежде, чем я отправился на боковую.
"Принимать суть", — хлопнув себе по лбу измочаленным листом, подумал я. — "Сейчас кому-то мы поджарим хоботки".
Остановившись на мшистом камушке, я позвал живой огонь. Сразу прошел зуд с прокушенных участков кожи, а гудящее облако отшатнулось в сторону. Я вздохнул с облегчением.
— Не во вред тебе и лесу огонь мой, — сказал вслух.
На пеньке за опушкой я успел оставить ароматный кругляш, сказать слова приветственные и даже отвесить поклон. Но вежливости много не бывает, особенно после проявления чуждого лесу огня.
— Гух-гу-ук, — не менее вежливо ответил мне лес.
Ноги мои как приросли к камню, на ярком мху которого после моего эксперимента образовалась пара черных пятен. До носа как раз дошел нехороший запах, надеюсь, что от погоревшего мха.
Возможно, за елками, осинками и лещинками голос подавал крошка енот. Или другая безобидная живность. Но, зная мое "везение" в последнее время…
— Я сейчас ускорюсь и покину этот чудесный лесок, — сообщил вслух свои намерения, по-прежнему надеясь на расход в разные стороны с диким зверем. — Не буду злоупотреблять гостеприимством.
Заросли снова гукнули. Кажется, подальше. Я постоял еще немножко, чтобы не показывать спину неизвестному лесному обитателю. А после стал быстро-быстро перебирать ногами, топая по тропе и не отвлекаясь на пустяки вроде вернувшейся к прерванной трапезе тучи кровососов.
— Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, — напевал без особой бодрости в голосе я, ожидая выйти уже к ориентиру — ручейку, обещанному Кириллом.
Ручья не было. Гуки за спиной то пропадали, то появлялись. На всякое похрустывание и поскрипывание я чуток прибавлял громкости к пению.
Когда от меня отстали насекомые, я и не заметил. Не обратил внимания и на то, как сменились деревья: я смотрел под ноги и прямо перед собой. Не хотелось поскользнуться на склизкой ветке или попасть ногой в яму. Я понял, что что-то не так, когда резко ухудшилась видимость.
"Ветер нагнал туч", — подумал я и поднял голову, чтоб осмотреться.
Поднял — и обомлел. Над головой сплетались голые черные корявые ветви, оставляя крохотные узорные оконца в тускло-серое небо. Грабы, дубы? Без понятия, но деревья были огромные, ветвистые. Мертвые.
Куда делась зеленая опушка с гудящей мошкарой? Когда травка и мох сменились сухой безжизненной землей, больше похожей на пепел, чем на почву?
Я принялся соображать: что же было сделано не так? Неправильный пенек для подношения? Приветствие было недостаточно учтивое? Живой огонь, вызванный в ответ на комариные атаки?
— Гу-у-гу-у-гу, — как-то очень обыденно прозвучало совсем близко. — Хры-у.
Я осторожно повернул корпус. Что же, хоть в этом не произошло осечки: обещали возможность встречи с кабаном? Пожалуйста: получите, распишитесь. Черно-бурая живая горка с длиннющей щетиной, длинное рыло с черным подвижным пятаком, острые клыки.
— Если встретится тебе все же кабан одинец, не беги от него, — процитировал я давешние слова Кошара и добавил свой к ним комментарий. — Помрешь уставшим.
— Уху, — согласился мордатый хрюндель, поскреб по земле копытом и ринулся на меня.
Когда кабаньи копыта оторвались от земли, между нами было метров пять. На глаз. Неповоротливая с виду туша набирала скорость, как гоночный болид. Счет шел на секунды, а я стоял китайским болванчиком и тупил. Деревья? Взобраться? Мне примерещилось, что стволы темной пущи расступились, отодвинулись подальше от меня.
"Привыкай верить в себя", — успело мелькнуть в сознании за миг до столкновения. — "Струны-ступени, спуск-подъем…"
Задумка не успевала оформиться, пыхтящая гора поспевала быстрее мысли.
"Для того мы и здесь — учить тебя", — я прыгнул в сторону и вверх, силясь воплотить в воздухе огненную черту, вроде тех струн от Кошара. И линию огня по земле — звери должны бояться пламени.
Видимо, не только тело хотело жить и здравствовать. Дар пламенный послушно откликнулся на мой зов. Я подтянулся, взобрался на свое мерно гудящее творение, и только потом позволил себе поискать взглядом противника. Дикий свин не попер сквозь огонь, он ухитрился свернуть, пробежать мимо пламенной преграды. Вот и верь тем, кто утверждает, что разогнавшийся кабан мчит строго по прямой и, если отскочить с его пути, пронесется мимо жертвы…
— Пошел прочь! — прикрикнул я. — А не то запеку кабанину.
Черта на земле, повинуясь моему желанию, полыхнула сильней, поднялась на метр, расширилась. Моя "встроенная паранормальщина" рвалась на волю, предвкушая… Что?
Я резко разорвал связь с огнем, спрыгнул на землю. Испуганный зверь бежал прочь, признав поражение.
"Лихо будет, ежели возобладает огонь над тобой", — нет, нам такой вариации будущего от Кошара не нужно совсем.
— Учиться, значит, — я присел на корточки, прислонившись рюкзаком с продуктами (хорошо, додумался рюкзак взять, не пакет или сумку) к коряге. — Как завещал дедушка Кошар.
Навалилась слабость. И апатия. И ноги заныли, что столько прошагал, и все не по ровненькому асфальту. И пить захотелось, а питья, как на зло, я и не купил.
Тут меня в спину толкнуло что-то. Я наскреб силенок, чтобы обернуться — слабость, как перина с пухом, затягивала все сильнее. Случись вернуться хрюнделю, толчком безобидным дело бы не обошлось, значит, жилы рвать на последнем издыхании нужды не имелось.
Ничего за спиной не было. Коряга черная да черные стволы.
— Показалось? — вопрос самому себе.
Я поскреб затылок и принялся поднимать свою тушку с земли. Ослабшие, обмякшие конечности слушаться не спешили. Им бы так и сиделось, а лучше — лежалось бы — эдакой киселеобразной массой.