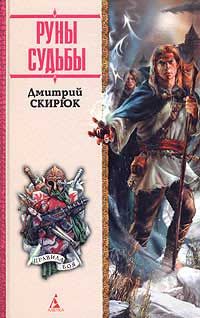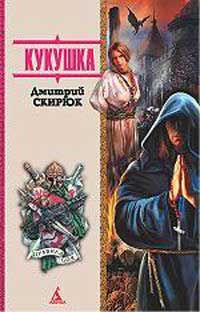Ознакомительная версия.
Убитая своими мыслями, Ялка встала и снова побрела вперёд, уже не думая ни о чём, и лишь тупо силясь сообразить, когда у неё закончились последние месячные, и откуда следует вести отсчёт безопасных дней. Выходило, что могло быть и так, и этак. Ялка шла, готовая возроптать на Господа, который создал её женщиной и тем обрек её на эту жуткую неопределённость ожидания. Почему, ну почему мужчинам так везёт? Почему одни всё переносят без последствий, а другим приходится расплачиваются за минуты удовольствия месяцами ожидания и родовыми муками? Да полно! Было ли оно, то удовольствие? Ялка задалась этим вопросом и в тот же миг почувствовала, как краска стыда приливает к щекам, вспомнила жар в груди и ниже, и покорную свою беспомощность, когда Михелькин мягко, но уверенно подталкивал её на сеновал...
Она хотела этого! Хотела и боялась. Боялась — и хотела. И страх в итоге сделал так, что ей ничего не удалось почувствовать по-настоящему, а после — сунул ей под руку рукоять ножа.
Страх...
Ей было плохо. По-настоящему плохо и страшно.
Ноги еле двигались, в голове шумело. Сухой валежник под ногами раздражающе хрустел, ветви деревьев цеплялись за волосы. Временами ей казалось, что даже мешок за плечами начинает жить какой-то собственною жизнью, что он шевелится, становится то тяжелей, то легче, тянет книзу и назад. Потом она перестала обращать на это внимание. В голове царил сумбур и кавардак. Она брела, с трудом переставляя ноги, то и дело натыкаясь на завалы бурелома. Проклятые башмаки всё время сваливались, всё тело болело. Потом она услышала звук льющейся воды, и вскоре путь ей пересёк ручей. Вода была холодная и пахла старой хвоей. Ялка торопливо напилась и умыла лицо. Опять мелькнула мысль о том, чтоб вымыться, но она тотчас осадила себя — сначала следовало развести костёр. Ночь помаленьку делалась холодной. Сил идти больше не было. Рассудив, что отошла она достаточно, Ялка спустилась ниже по течению, обустроила себе насест в тени огромной ели и принялась собирать валежник. Потом стянула с плеч мешок и принялась искать огниво. Искала долго. Но огнива не было. Потом она вдруг вспомнила, как бинтовала рану Михелю, прокладывала трут... Должно бить, и огниво она выронила там.
Ялка отложила в сторону мешок и привалилась к дереву.
Мороз крепчал. Ногам становилось уже совсем холодно. Она нашарила корсет, но надевать его не стала — при одной лишь мысли, что придётся снимать кожушок, начинал бить озноб. «Пускай, — подумала она с каким-то равнодушием. — Пускай замёрзну. Я устала. Я боюсь. Я больше не хочу. Всё и так слишком плохо, чтобы делать ещё хуже. Я останусь здесь, так будет лучше. Всё равно мне не найти его, не угадать. Он не приходит к больным, как не приходит и к здоровым. Он приходит только к тем, кого может спасти... только он».
Только он.
Мысль эта, ясная и странная своей понятностью, ещё недавно заставила бы Ялку ахнуть, но теперь она подумала об этом, как о чём-то малозначащем. Она скоро замёрзнет. Без огня она не досидит до утра. Надо было двигаться, но двигаться ей больше не хотелось.
— Вот и всё, — пробормотала Ялка непослушными губами и в изнеможении откинулась к древесному стволу. — Летела кукушка... да мимо гнезда. Летела кукушка... не зная, куда...
Сколько времени она так просидела, Ялка не смогла бы сказать. Потом она очнулась, будто от толчка, сама не зная, что послужило причиной. Не было ни шороха, ни звука, просто она подняла взгляд и вдруг увидела у дерева какой-то силуэт. В первое мгновение она даже испугалась, потом ей снова стало как бы всё равно.
Человек под деревом был худ, не очень высок, но выше Ялки, и с копной взъерошенных волос, цвет которых в сумерках ей было уже не разглядеть. Ладони его двигались нелепо, одна вокруг другой, как будто сматывали что-то в темноте. Мираж. Альраун. Привидение.
«Я замерзаю», — со спокойствием подумала она.
Луна вдруг засветила ярко, выхватив из темноты его лицо и руки. Теперь ей стало видно, что в руках его — клубок. Неаккуратный, весь какой-то перекошенный, намотанный мужскими неумелыми руками. Лицо стоящего под деревом было задумчиво, без тени улыбки. Глаза смотрели прямо и серьёзно. Ялка вспомнила, что у неё в рюкзаке тоже должен быть клубок, последний из оставшихся. Должен быть... но почему-то она не наткнулась на него, когда искала кремень и огниво.
— Так значит, это ты вернула парня, — внезапно хриплым голосом сказало «привидение». Ялка вздрогнула и торопливо заморгала. Слезы застилали ей глаза и мешали рассмотреть его как следует. Но этот голос...
— Ну что, ты так и будешь здесь сидеть? Ялка еле разлепила губы, ставшие холодными и непослушными.
— Ты Лис, да?
Собственные слова прозвучали тихо и бесцветно. Человек под деревом кивнул:
— Так меня называют.
Сердце её замерло, потом пустилось вскачь. Обида вызрела и лопнула нарывом. Всё, что девушка хотела травнику сказать, куда-то кануло, пропало. Остались только боль и страх.
— Дурак! — она швырнула в него снятым башмаком — первым, что ей подвернулось под руку. Промазала; травнику даже не пришлось уклоняться. — Дурак! Дурак!!! Где ты был?! Я же тебя искала! Тебя! Все эти месяцы я так тебя искала, все! Что тебе стоило прийти?! Ну что тебе стоило?! А ты... Ты...
Она замешкалась, наморщилась, чихнула, дёрнулась, как от удара, и внезапно зарыдала в голос, вытирая нос ладонью и размазывая слезы по щекам. Повалилась на бок. Спрятала лицо и потому не видела, как несколько мгновений травник молча и серьёзно на неё смотрел, потом шагнул вперёд, присел и положил клубок на землю рядом с ней, и протянул ей руку.
— Вставай, — мягко сказал он. — Вставай, Кукушка. Пойдём.
* * *
В хлеву у дома на окраине села высокий белокурый парень медленно пришёл в себя. С минуту он просто лежал неподвижно, моргая в темноте и силясь вспомнить и сообразить, что с ним произошло, попытался сесть, поморщился от боли, сунул ладонь под рубаху. Нащупал плотную тугую перевязку, а под нею — рану от ножа. Вытащил руку и растёр на пальцах засохшую, запёкшуюся кровь. Втянул со свистом воздух и скривился.
— Сука... — пробормотал он. — Ну, сука...
Я знаю, о чем говорит гранит,
О чем толкует топот копыт,
Как олово лить, как молоко кипятить,
Я знаю, — во мне снова слово горит.
Я знаю, как выглядит звук,
Что делают с миром движения рук,
Кто кому враг и кто кому друг,
Куда выстрелит согнутый лук,
Поиграй на его струне
Узнай что-нибудь обо мне!
Я могу появиться, я могу скрыться,
Я могу всё, что может присниться,
Я меняю голоса, я меняю лица,
Но кто меня знает, что я за птица?[11]
О. Арефьева
Кусты ежевики и жимолости с треском расступились и качнули голыми ветвями, выпуская на поляну двух людей и взмыленную лошадь. Замерли опять. Тот человек, что был пониже ростом, стащил с головы потрёпанную чёрную шляпу фламандского лоцмана, утёр ею пот и истово перекрестился. Огляделся по сторонам, плюнул в сердцах так же истово, как только что крестился, пристроил шляпу обратно на затылок и так застыл, с подозрением водя носом туда-сюда, как будто бы принюхивался. Он выглядел, как выглядят обычно неотёсанные местные крестьяне из лесовиков, но на охотника не походил, скорее, смахивал на дровосека или углежога, был плохо стрижен и основательно небрит, как будто был в пути дней пять, а может быть, неделю. На его кафтане, на штанах и даже на потёртом войлоке дырявой шляпы там и сям во множестве торчали ломкие трухлявые осенние репьи.
Ознакомительная версия.