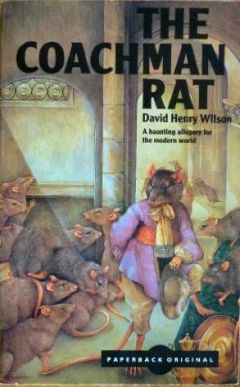30
Я знал, чего они хотят от меня. Я читал об этом в книжках. Но сейчас я просто хотел закрыть глаза. Закрыть. И даже с закрытыми глазами — не знать.
— Вы просите меня совершить массовое убийство! — простонал я.
— Ты уже сделал это, — тихо сказал доктор Рихтер. — Ты привел их сюда.
Дженкинс положил руку мне на плечо.
— Роберт, — начал он, — если бы принц и Амадея были бы сейчас живы, и если бы они просили тебя о том же, ты бы отказал им?
Я не мог ответить ему. Я попросил их оставить меня на несколько минут. Они вышли, не проронив ни слова.
Я упал на колени. Мой меч лежал рядом, и в эту секунду я хотел было схватить его и положить конец моим несчастьям. Но я знал, что это не будет концом. Моим несчастьем была чума, а она собирала бы свой урожай независимо от моей смерти.
— Помоги же мне! — всхлипнул я и со всей силой духа пожелал снова увидеть Леди Света. Она одна была властна положить конец этой агонии. Она коснется города и он очистится. Она коснется меня — и даст мне долгожданный покой.
Но она не пришла. Это должно быть мое решение. Опять один, опять отягощенный ответственностью. Этой проклятой ответственностью, на которую я не согласился бы до конца моей жизни. Но Дженкинс был прав. Дженкинс всегда оказывался прав. Если бы Амадея попросила меня об этом, я был бы уверен, что другого выхода нет. Правду говоря, а разве у меня был другой выход? Остаться и смотреть, как Дженкинс, доктор Рихтер, и остальные, а потом и я сам — почернеем, распухнем и умрем? А крысы умрут так или иначе.
С флейтой в руке я вышел из дверей и шагнул навстречу Дженкинсу и Рихтеру. Мы вышли из дворца, дошли до реки и сели в поджидавшую нас лодку.
— Мне кажется, в этой жизни никогда не будет покоя, — пожаловался я. — Каждая дорога ведет к новому кошмару.
— Кошмар кончается, когда мы просыпаемся, — ответил мне доктор Рихтер.
— Так мы спим? — посмотрел на него Дженкинс. Рихтер промолчал.
По пути мы договорились, что я уведу приплясывающих крыс в реку только вечером. Тем временем людей предупредят, и вечером они будут сидеть по домам. Хотя они и так обычно сидели по домам. Я поеду на моей карете, которую специально для меня держали в собственной конюшне доктора Рихтера, а когда бойня окончится, я вернусь туда же. Там останется и Дженкинс.
На том берегу нас ожидала карета доктора Рихтера. Когда мы ехали через город, я повсюду замечал знаки чумы. На дороге валялись мертвые крысы, во многих домах окна были завешены траурным крепом. Но по-прежнему по улицам ходили люди, по-прежнему торговали в своих лавках купцы, по-прежнему заходили в лавки покупатели. Кучка детей, распевая песенки, играла в переулке.
— И они не боятся? — спросил я Дженкинса.
— Только когда прекращают игру, — улыбнулся он в ответ.
Мы въехали на рыночную площадь и остановились у большого здания с часами. В первый раз я пришел сюда с Девлином, в тот день предательства. Доктор Рихтер повел нас внутрь, но в этот раз не в тот большой зал, а в комнату на первом этаже. Там сидело несколько человек с серьезными лицами. Один или два показались мне знакомыми — может быть, из окружения Девлина, может быть, друзья доктора Рихтера.
— Джентльмены, — начал Рихтер, — должен ли я представлять вам кучера Роберта? Мы объяснили ему положение дел и он согласился на наш план.
Неожиданно и непроизвольно все они захлопали мне. Кто-то толпился вокруг со словами благодарности.
— Подождите, я еще ничего не сделал. И то, что я собираюсь сделать не причина для благодарности или для празднеств. И независимо от результата — завтра мы все будем еще плакать.
Торопливо был составлен план извещения людей о том, что предстояло сделать. Затем они стали обсуждать вопросы, касавшиеся погребения мертвых и лечения больных. Дженкинс и я сидели рядом с доктором Рихтером, но не принимали участия в разговоре. Я был удивлен и впечатлен порядком, царившим на заседании, и тем, как его вел доктор Рихтер: справедливо, но твердо. Дженкинс снова оказался прав — как всегда — в выборе вожака.
— Ну что ж, если это все, — объявил наконец доктор Рихтер, — тогда я закрываю наше заседание.
— Подождите, — поднялся я. Все присутствующие немедленно посмотрели в мою сторону.
— Я сделаю то, что и обещал, но с одним условием.
— Все, что угодно, — ответил доктор Рихтер. — Мы и так у вас в неоплатном долгу.
— Все равно, получится у меня или нет — я хочу, чтобы вы поставили памятник. За городом стоит высокий холм. В этом холме лежат тела принца и Амадеи. Я хочу, чтобы вы поставили на этом холме памятник. Из золота.
— Это будет сделано, — кивнул доктор Рихтер.
После заседания он отвез нас с Дженкинсом к себе домой и там мы дождались вечера.
Как мне описать то, что случилось в ту ночь? Где мне найти слова, которые вновь оживили бы ужас того, что я сделал? Для вас, читающих мою историю, это было не более чем уничтожением паразитов. Вы не питаете высоких чувств ни к какой форме жизни, кроме самих себя. А для меня это были братья. Мои сородичи. Я родился среди них, жил среди них, сражался среди них. И в тот вечер они доверились мне — и в десять раз более вероломно, чем Девлин, я повел их к гибели.
Позвольте же мне излагать только факты. На своей карете я проехал через весь город, созывая крыс из каждого квартала. Несмотря на множество смертей, это все еще была великая армия и вся земля, казалось, затряслась, словно сама Венера снова спустилась вниз, чтобы перевернуть ее. Я увел их к реке. На небе светила полная луна, под светом которой вспыхивала и сверкала быстро текущая река. Я заставил лошадей войти в воду по самую шею. Они были достаточно сильны, мои лошади, а вместе с каретой достаточно тяжелы, чтобы течение не опрокинуло нас. А потом я забрался на крышу и заиграл мелодию, обещавшую вечное блаженство тем, кто последует за мной. И они потекли в воду, непрерывным потоком, словно расплавленная лава — лишь затем, чтобы быть унесенными прочь безжалостными струями. Короткие взвизги ужаса, словно стрелы, неслись в меня, но я играл дальше, и они все шли. Несколько ухитрились доплыть до кареты и забраться ко мне на крышу. Они не нападали на меня. Они жались к моим ногам, словно уже попасть на эту крышу было щедрой наградой. А остальных тащило прочь, но они все плыли и все боролись, пока глубокие воды реки не заглатывали их.
А я все играл, играл сквозь слезы, играл, пока наконец не понял, что играю в полной тишине. Единственным откликом моей мелодии было журчание воды. Я остановился. В мире больше не наступит ночь, столь наполненная смертью.
Я опустился на колени и сыграл одну последнюю ноту. Это была нота печали, рвущихся сердечных струн, вечного прощания. Она пела о утерянном мире и о том, чего никогда уже больше не будет. Мне хотелось, чтобы это была моя собственная предсмертная песня… но я не умирал. Моя душа хотела улететь прочь, но тело удерживало ее. Только ноты вырывались наружу и улетали в отягощенную ночь.