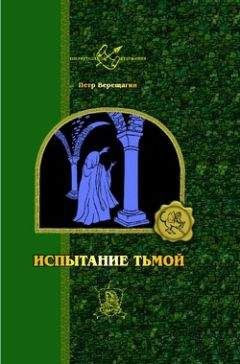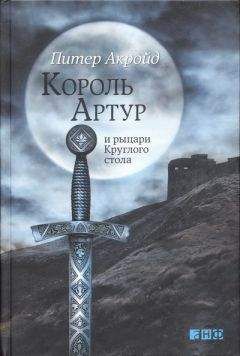Адрея коснулась седых волос Ривке, в который раз проверила, бьется ли сердце, хотя и понимала: бесполезно. И для благородного Вильфрида Ивинге, в раскроенной надвое броне и со шрамом через все тело наискосок, тоже – бесполезно. Наверх-то их Варгон и Киана вытащили, только слишком поздно… даже если бы вытащили сразу, и Пепин был бы здесь со всем своим арсеналом зелий – все одно, поздно. Что в точности стряслось там, в Геенне, ведьма могла лишь догадываться, а вот как именно такое получилось – тут ожоги от силы на ладонях девушки и такой же ожог-шрам у ее ненаглядного рыцаря говорили сами за себя.
– Мертвых не вернуть, глупенькая…
– А нужно? – спросил Варгон. – С этой штуковиной я бы мог…
– Не мог бы. Сам знаешь. Только как Лазарус делал, а это не вернуть, бродячий беспокойник и живой – не одно и то же. Помоги мне лучше… я хочу как следует устроить для них гробницу, это самое меньшее…
– Сколько угодно.
Адепт воздел на ладони Адов Пламень, дорогу к которому так великолепно расчистили рыцарь с необученной колдуньей, и рубин показался сгустком настоящего огня. Особенно когда чародей прошептал несколько слов, превращая землю под их телами в просторные каменные гробы без крышек. Критически посмотрев на результат собственных усилий, чародей недовольно скривился, дважды ударил посохом оземь – и воздух над двумя гробами застыл прозрачной хрустальной плитой.
– Не трогай пока… – Варгон осекся и попятился.
Сияющее голубое лезвие вспороло зыбкий, не до конца материальный хрусталь. Кашляя, Вильфрид сел в гробу, разбрасывая обломки того, что должно было стать крышкой, бросил дикий взгляд вокруг… и секира Dwaergar, коротко свистнув в воздухе, застряла в середине груди чародея. Адепт попытался рассмеяться, поперхнулся собственной кровью и осел к ногам Адреи – та испуганно вскочила и застыла как статуя.
– Ребекка! – простонал рыцарь, поднимаясь на колени и наклоняясь над вторым гробом.
Седины в черных волосах девушки почти не было; так, несколько нитей, которые напоминали – все, что случилось недавно, им не примерещилось. Она дышала медленно и ровно, как будто спала. Вильфрид прикоснулся к ее плечу, осторожно пошевелил – Ривке что-то промычала и продолжала спать. Тогда он склонился ниже и коснулся губами ее губ.
Девушка сперва ответила на поцелуй, и лишь потом открыла глаза.
– Если это сон, я не хочу просыпаться, – прошептала она, потянувшись к нему вновь.
– И не надо, – улыбнулся сакс, повторяя целительную процедуру.
…Адрея не могла пошевелиться. Она так и осталась стоять, окаменев, когда Ривке и Вильфрид наконец поднялись и прошли мимо нее, словно не замечая. Труп Варгона рыцарь отволок в собственный гроб, в другой положил тело старой Марги, которое обмытое и лежало в ожидании погребения. Девушка собрала букет цветов – не бог весть что, конечно, однако лучше, чем ничего, – и осторожно положила сверху. В основание гробницы сакс, немного поразмыслив, воткнул свой стилет.
– Ни одна нежить не тронет. Покойтесь с миром.
– Земля к земле, прах к праху… – добавила Ривке.
Каменная статуя Адреи не произнесла ничего. Даже когда Вильфрид Ивинге, сделав шаг назад, случайно раздавил подошвой тяжелого сапога хрупкий красный кристалл в ажурном обрамлении из танцующих серебряных огоньков…
…Адов Пламень, игрушка ушедшего мира и объект почитаний мира сегодняшнего, – что пользы от тебя тем, кто обладает жизнью, а не иллюзией ее? что ты можешь подарить тем, в ком горит живой огонь, тем, в чьих жилах течет кровь, а не тяжелая, вечно холодная серая вода, которая сохраняет ткани от разложения, уничтожая в них частицы живого? Ты знаешь ответ, мудрый камень, и молчание твое красноречивее любых отповедей. Ты прекрасно знаешь ответ, застывшее в кристалле сердце, средоточье огня, что был некогда живым, хотя и умер раньше, чем ты принял свою окончательную форму. До того, как тебя сделали тем, чем зовут Адов Пламень предания о Старом Мире… в те дни ты ведал, что такое – чувство… и знал, каково это – лишиться способности чувствовать, но не памяти о том, какими эти чувства были, а если не знал тогда, так знаешь сейчас. Адов Пламень, ты доказал, что несмотря на все сказанное ранее – ты все-таки был живым! ты доказал это, избрав жизнь для других и смерть для самого себя…
И да останется все сказанное мною – в тех, кто способен услышать, а остальное – похороненным в окаменевшем сердце моем, в сердце, которому незачем больше гнать кровь по жилам, потому что жить – тоже незачем. Потому что я уже увидела все, что могла увидеть, сделала все, что могла сделать, сказала все, что могла сказать… И не напоминайте мне о долге – вы не знаете, что значит это слово, а я жила с ним триста лет!
Я, Адрея, завершаю эту повесть.
Остается добавить только одно.
«Requiem aeternam dona me, Une, et obscuritas perpetua edeat me…»
Сказание
Безумный Менестрель
…Говорили, что он блуждает во тьме и не может выйти на свет, пока свет не станет тьмой. Говорили, что песни его помогают этому превращению, и только когда в его руках арфа или лютня – он вспоминает ту часть себя, которую хочет вспомнить. В остальное время у него в глазах та же темнота, что царит вокруг него.
Никто не может похвастаться, будто знает его облик или его имя. У него нет имени, есть только прозвание; облик же его не скрыт ни маской, ни личиной, ни искусными чарами иллюзии – однако никто не в состоянии запомнить черт его лица. Даже назвать цвет волос или форму подбородка – не могут. А ведь многие в мирах тьмы, по которым он странствует, видели и видят до сих пор сутулую фигуру в обрывках темного плаща. Фигуру Безумного Менестреля…
Это не сказание о том, кто смеется, не имея больше сил для рыданий. Это – сказание о том, кого в нем видят.
Есть и другое, приписываемое самому Безумному Менестрелю. Он не подтверждает своего авторства и не отрицает его. Проверить истинность упоминаний по многим причинам невозможно, а посему это сказание (вернее, песня) приводится без дальнейших комментариев.
Я – шип, что в стопу вошел, я – сумрак ночной в глазах;
Я – червь, что терзает ствол, я – путника злейший страх.
Я – лаз крысиный в стене, я – ржавый засов на двери;
Я – дух разрушенных дней и вестник кровавой зари.
Гниль на ячменном зерне, грязь на пшеничных снопах —
Мой разрушительный смех все топит в горьких слезах.
Я – язва, плесень и ржа, я – разложенье и смерть,
Слизь из ночного дождя и кара солнечных дней.
Засуха пьет мою кровь средь вековечных болот,
Яд роковых лепестков в клочья мне легкие рвет,
Юг насылает чуму, тлеет в проказе Восток —
Но не уйти мне во тьму, не дописав этих строк!
Страх мне помог одолеть сумерки северных льдов,
Знания мертвых сберечь смог я средь черных их снов;
Руки мои – ветхий прах, жжет их свинцовый огонь:
Склепы в песках и степях грабил я, жить обречен…
День не вернется назад, не потеплеет луна,
Но сквозь затерянный ад вышел я в музыке сна.
Мертвый мой раб-чародей голосом прежних веков
Черную силу теней выжег дотла болью слов.
Не получал я даров в храмах от гордых владык —
Им не оставить следов в черном песке моих книг:
Там – ужас алых глубин, крылья растоптанных грез,
Дрожь оскверненных пучин в море безумных угроз.
Там средь нечистых гробниц чудища спят мертвым сном,
В тучах кровавых зарниц – демоны прошлых времен.
Там нет пространств и веков, нет ни Барьеров, ни Врат;
Есть только край мертвых снов, где раем кажется ад…
Разум – кусок ледника, сердце – обломок скалы;
Но первородный свой страх я наконец победил!
Черного древа плоды, вязкий ваш смрад явит суть, —
Дайте мне мертвой воды, чтобы я смог отдохнуть…
…А еще говорят…