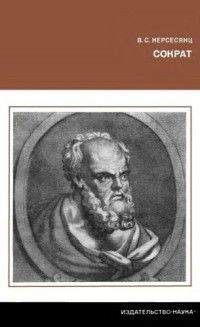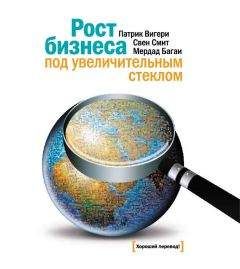И вот теперь они шли рядом – неинтересные друг другу люди разного пола, у которых никогда не будет романа и вообще ничего не будет. Оба прекрасно это понимали и ждали минимального внешнего повода, чтобы разбежаться. Мошкин шагал, дежурно изображал приветливость и радость, от которой у него судорогой сводило мышцы лица, и взглядом промерял расстояние до метро. Метро было почти рядом, но мешалась оживленная улица без светофоров. Приходилось делать крюк.
И вот Мошкин уныло шел и от нечего делать размышлял: некрасива Лариса, потому что зла, или зла, потому что некрасива. Обе версии были правдоподобными. Лариса бежала рядом с ним полубоком и визгливым, как диск пилы-болгарки, голосом конспективно, через запятую, перебирала всех общих знакомых:
– Анька просто самка собаки… Натурально самка! Федор – урод! Димон, ты помнишь, всех нас старше был, провалился в институт, тупарь, и его втюхали в платный… Кузьмина увела у меня парня! Я ей морду кислотой оболью!
«И зачем я ее окликнул, дурак?» – спрашивал себя Мошкин.
Он не в первый уже раз думал, что девушки, по его наблюдениям, гораздо агрессивнее парней. Мужскую агрессию всегда можно обосновать логически. Это либо борьба за главенство в компании, либо, напротив, попытка отстоять право на независимость. Парень всегда – ну или почти всегда – моментально чувствует, когда противник повержен, деморализован или идет на попятный. На этом драка обычно прекращается. Точки расставлены, вожак определен. Один спокойно идет останавливать кровь из носа, другой не менее спокойно отправляется на математику. Через два урока стычка забыта.
Опять же всякий парень всегда знает, когда у него есть шанс, и лишний раз не полезет. Ни при каких обстоятельствах он не станет откусывать противнику нос или выцарапывать глаза. Вроде как и эффективный прием, но другие не поймут, да и вообще не в правилах это.
С девушками история другая. Они хоть и дерутся реже, но войны у них идут неделями и годами. Войны яростные, без правил, когда противник не только убивается, но и пепел его сдувается с полировки. Тут и телефонные звонки ночью, и написанные на стенах ручкой оскорбления, и всякие мелкие подлости, на которые у мужчины и фантазии не хватит. Ну а словесная агрессия – вообще традиционно женское поле боя. Тут и не суйся. Голову проломят да еще и напомнят, что с девушками драться неблагородно.
– Михайлова в колледже. На экономку учится. Год проучилась, а не помнит, как ее колледж называется. Даже адреса не знает. Знает только, как ехать. Дура жуткая!.. Забужникова в партию какую-то записалась, где майки дают. Она пришла, ей майку дали, а сумки не досталось. Она психанула и из партии ушла… Генка Кугель с нариками связался. Из него кровь выкачивают, очищают и обратно вкачивают. Два раза уже… Тощий стал, психованный. Вещи из дома ворует. А долго выпендривался! Говорил, что у него сила воли такая, что он в один день бросит!
– А Данилова как? Что с ней? – как бы невзначай спросил Евгеша.
Лариса прищурилась:
– А, та беленькая, в которую ты был так глупо влюблен? Ну которая еще собаку играла в спектакле про Чиполлино?..
– Да, она.
– Это из-за нее ты не хотел, чтобы тебя Женей называли? Типа она Женя, а ты Евгеша?
– Нет, не из-за нее, – с усилием соврал Евгеша.
Лариса хихикнула.
– Да ладно тебе! У меня где-то был ее телефон. Она мне как-то эсэмэску сбросила, с днем рождения поздравляла. Кстати, удивлялась, что ты студию бросил! – сказала Лариса, бегло просматривая адресную книгу мобильника.
Мошкин торопливо переписал номер. Теперь он был уверен, что эта встреча не случайна.
– Кстати, а куда ты делся-то? – вдруг спросила Лариса.
Вопрос был привычный. Мошкину уже много раз приходилось на него отвечать, объясняя про другую школу и другой район, но сейчас он отчего-то замешкался и спутался. Перед глазами у него стоял телефонный номер.
– Э-э… Ну…
– Работать устроился? – перебила Лариса, понявшая его замешательство по-своему.
– Да, – поспешно сказал Мошкин.
– В общепит, что ли? Ну где орут: «Свободная касса! Ваш заказ!» и все такое?
– Да, – еще поспешнее подтвердил Мошкин.
Но вот, наконец, и метро. Они спустились по эскалатору.
– Тебе куда? – спросил Мошкин.
– Туда! – показала пальцем Лариса.
– Ой, а мне на пересадку! Ну пока!
– Как жалко! Пока!
Мошкин посадил Ларису в поезд, убедился, что он исчез в тоннеле, а затем дождался следующего состава и поехал в ту же сторону.
* * *
Мефу снился сон, длинный и безрадостный, как дохлая такса.
Ровная блеклая степь. Он, Меф, бредет неведомо куда. Выжженными чешуйками осыпавшихся следов пылит под ногами дорога. Если бы не солнце, отдувающееся жаром, Меф решил бы, что он в Преддверии Тартара.
Внезапно впереди показывается темная, двигающаяся по дороге точка. Человек! Меф дог оняет, задыхаясь, дергает за плечо. Человек оборачивается. Борода до глаз. В оплывших скулах тонут острые глаза. Меф видит женское пальто. Из кармана целится горлышко.
– Витька-юродивый! И ты здесь?
– Не я. Ты. Я так – мимо проходил, – отвечает сиплый до стертости голос.
– Где я? Что это за степь?
– Место для тех, кто ушел от тьмы, но не пришел к свету.
– Но здесь же ничего нет!
– Вот именно: ничего! Разве ты не этого хотел, нейтрал? – соглашается Витька-юродивый, отталкивает Мефа и исчезает.
Меф садится на землю и сидит, ощущая кожей равнодушный жар солнца. Идти некуда. Долго, очень долго сидит он так, а потом слышит стук копыт. Поднимает голову и видит, как над полем в дрожащем мареве медленно едет усталое воинство света. Возвращается после тяжелой, но победной битвы. Многие седла пусты. На плащах кровь.
Меф вскакивает.
– Возьмите меня! Не оставляйте здесь! – кричит он.
– Поздно. Ты не бился вместе с нами! – доносится до Мефа в сухом, дробном раскате грома.
Воинство света удаляется, и вновь Меф остается один.
Меф открыл глаза. Было душно. За стеклом серванта томилось запертое солнце.
«Ага, сейчас день. Я в общежитии. Даф отправилась купить чего-нибудь съестного, а я отрубился. Неудивительно после такой ночки», – понял Меф.
Как всякий некстати заснувший человек, он испытывал растерянность и легкое чувство вины. Сон еще не растаял и воспринимался как данность. Лишь несколько минут спустя он стал блекнуть, выцветать и сделался как крыло мертвой бабочки, когда ее тело присыхает к дороге, а крылья треплет ветер, стирая с них пыльцу.