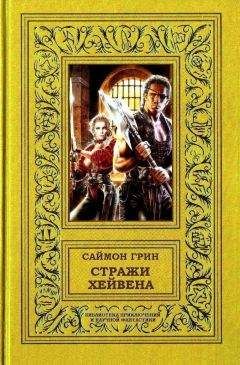Около часа он шел вдоль ручья, пока тот не окончился маленьким болотом с кустами акации по краю, где удалось убить утку. Он ощипал и выпотрошил птицу и зажарил ее на обед. Уже стояла жара. Обливаясь потом, он прилег под кустом, проснувшись под гудящей пеленой мух. Пройдя выше по течению, он пил, пока в животе не забулькало, затем долил флягу, поправил поклажу и направился мимо болота в лежащие впереди пустые земли.
Лес - тайна, а пустыня - истина. Жизнь, обглоданная до кости. Пейзаж заострился, всякая мягкость была давным-давно съедена, так что глаз мог отдохнуть только на изгибах дюн, мареве на горизонте и собственной тени. В одной песчинке - вся сущность пустыни. Неизменная, несокрушимая, недвусмысленная. В одной песчинке. Как кусочек души, выдубленный до сердцевины ветром и солнцем.
Он миновал последние акации и зашагал среди дюн, двигаясь в противоположном от солнца направлении. Но хоть ему и казалось, что он перемещается быстрее, чем белый глаз наверху, тот достиг своей цели раньше, поскольку на закате горизонт оставался все таким же далеким и пустым. Ничтожно маленький в этой безбрежности, он и с наступлением ночи продолжал идти, и единственными звуками были его собственное прерывистое дыхание и шарканье подошв по песку. Поднялась луна, как бледная лодка в пересохшем русле реки, и когда она оказалась прямо над его головой, он остановился, отпил несколько глотков воды и заснул в песчаном углублении.
Проснулся он продрогшим и разбитым Луна переваливала за горы, волоча за собой звездный шлейф. На востоке горизонт начинал розоветь. Он промочил горло и направился к этому пятну в темноте. Как же быстро испарялась ночная прохлада. Солнце не преодолело и четверти небосвода, а от раскаленного песка накатывали волны жара, и он тащился, прищурившись, закрываясь рукой от слепящего блеска. Он был в океане огня, на ужасных полях чистого света.
Он оглянулся назад на проделанный путь, где горы уже превратились в полоску изорванной синей бумаги, а предгорья выглядели размытой акварелью. Больше он не оглядывался.
Каждая дюна была как утес. Шаги его вызывали лавины, башмаки были полны песка. Ноги точно вязли в болоте, а впереди каждый раз поднималась новая дюна, которую изменчивая форма не делала менее непреодолимой.
Но он не оставался равнодушным к красоте. Ветер, трудясь над такой податливой средой, достиг совершенства. Дюны как морщинистые веки, как старые бивни, как рассыпанные дольки мускатной дыни или манго, их склоны как зубчатые сети или рыбья чешуя, и не было двух одинаковой формы. В пустыне нет монотонности. На ее мольберте смешано бесконечное разнообразие оттенков.
Тени съеживались, по мере того как солнце приближалось к зениту, его собственная тень превратилась в комочек, корчащийся под ногами, словно от нестерпимого жжения. Ему встретились торчащие из песка кости, ребра как длинные клыки, устремленные в небо. Мгновение он тупо таращился на них. Потом достал одеяло и растянул его, как на каркасе, устроив самодельный навес, под который тут же заполз. Спасительная тень. Он попил, чувствуя, как костный мозг мгновенно впитывает воду, и стоило большого усилия, чтобы удержаться и не вылить всю флягу в спекшийся рот. Встряхнув емкость, где булькнула его единственная защита от льющегося сверху зноя, он с гримасой убрал ее назад в рюкзак.
Проснулся он с головной болью. Стало прохладнее. Из своего укрытия он переполз в тень дюны, за гребнем которой уже скрылось солнце, сложил одеяло и вновь продолжил путь. Благословением спустилась ночь, а он все шел, как заводная кукла, расходуя каждую клеточку мозга, чтобы двигать конечностями, пока ноги не подкосились и он снова не впал в забытье.
На другой день дюны сменились каменистыми россыпями. Идти стало легче, только приходилось следить, чтобы не подвернуть ногу. В полдень он сложил из камней несколько пирамид, послуживших опорами под одеяло, а когда тени удлинились, отправился дальше. Впервые он узнал вкус смерти. Она была как камень. Смерть поджидала его в этой пустыне, словно попутчик, с которым еще предстоит встретиться. В стране смерти нет воды, там могут жить лишь те, кто пьет свет и ест камни, но в мире нет никого, кто может пить свет, и никого, кто может есть камни. Подобные мысли он загонял назад в голову кулаками, кричал на них хриплым голосом, подобным шороху песка. Он не сдавался.
К закату того же дня он добрался до колодца из сложенных кругом камней на песке с единственной пальмой по соседству. Бадьи не было, и он достал из своей поклажи жестяной чайник, привязал к проволочной ручке кусок бечевки и, опустив, услышал слабый всплеск, который прозвучал в его ушах голосом любимой. Это был самый восхитительный напиток из всех, что он пробовал, - невесомый, как воздух, крепкий, как ром. Он выпил еще, заел несколькими финиками с дерева, расстелил одеяло рядом с источником и заснул.
В глухую полночь он проснулся под серпом луны, и на краю колодца увидел сидящую женщину, прекрасную и печальную, в изодранной, некогда белой, накидке, босую, с волосами, лохмами спадающими на плечи.
- Господин, - попросила она, - будьте милосердны и достаньте для меня немного воды. Я давно в пути и хочу пить.
- Конечно, - ответил поэт и наполнил свою самодельную бадью, откуда она попила, не отрывая от него взгляда. Напившись, она вернула чайник и разрыдалась.
- О, прекрасная госпожа, не плачьте, - сказал Пико. - Поведайте, что вас печалит.
- Простите, - пробормотала она и пальцами смахнула слезы. - Вы первый, кто за долгое время был ко мне добр, - обернувшись к нему, она похлопала по камню, и он присел подле нее.
- Господин, - проговорила она, - мы не представились друг другу как подобает. Меня зовут Айя, - рукопожатие было прохладным, как вода из источника.
- А я Пико.
- И как вы оказались у этого колодца посреди пустыни, куда почти не забредают путники?
Тогда он рассказал свою историю о любви к Сиси, о жажде обрести крылья, о письме, что толкнуло его в поход, о препятствиях и о помощи, с которыми столкнулся, об утреннем городе, куда пробирался. Во время рассказа она вздыхала, видимо по привычке. Худая, с огромными глазами в черных кругах, она показалась ему неимоверно истощенной, как будто пережила невиданные испытания и до сих пор не вполне оправилась.
- Ах, - произнесла она, когда он закончил, - эти превратности любви, все мы бродяги в темных дебрях сердца.
- Значит, и вы влюблены? - спросил Пико, заранее зная ответ.
- О да, я влюблена, я люблю, - она провела ладонями по щекам и сжала руки на груди.
- Расскажите свою историю.
- Слушайте, - начала она, - Далеко на юге в конце пустыни лежит город цветов, там и я росла самым тщеславным созданием на свете. Прекрасной назвали вы меня, но я просто уродина в сравнении с тем, какой я была ребенком или девицей. Белая, как молоко, кожа, глаза ясные, как бывают у агнцев, цвет их, можете убедиться, точно вечернее небо. Губы мои прелестные, как медовые лепестки роз, пышные, точно бархат. Мои груди, о, про них некогда шла молва, мягкие, как переспелые груши, с сосками цвета зрелой сливы. Еще ребенком, пройдя, я так воспламеняла мужчин, что к утру их простыни были в пятнах от распутной несдержанности. При встрече они ахали, позабыв про клянущих их жен, и кусали запястья, чтобы не закричать. Живописцы отдавали последние деньги за возможность рисовать меня одетой, поэты и музыканты сутками просиживали под моим окном, надеясь приметить через щель в занавесках хоть кусочек тела и мечтая, что их нота или фраза когда-нибудь удостоятся моего снисхождения.