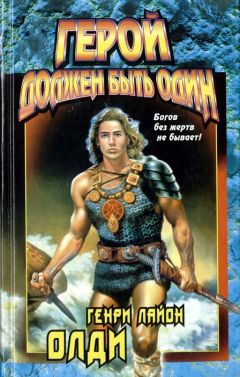Палестра ночью разительно отличалась от палестры дневной – шумной, остро пахнущей здоровым потом, звенящей возбужденными голосами; диски, взмывающие в небо, стрелы, срывающиеся с тетив, лязгание тупых учебных мечей, строгие окрики учителей, вопли увлекшихся подростков…
Ничего этого сейчас не было.
Сонное царство, остывшая кузница героев, Асфодельские поля, где неслышно бродят тени несбывшихся мечтаний, сжимая призрачные древки не попавших в цель копий, вновь и вновь пересекая черту финиша, которую первыми пересекли не они, подбирая невесомые диски, упавшие не так и не туда… ночная палестра, томительно-бессмысленная, как покинутый дом, как надтреснутый кувшин; как тело со сломанной шеей.
Когда одна из теней поднялась с дальней скамьи западных трибун и махнула Амфитриону рукой – он сперва решил, что ему примерещилось на трезвую голову.
– Радуйся, Амфитрион! – негромко произнесла тень, излишне нажимая на «а», как принято у лаконцев.
– Вот именно, что радуйся, – глухо отозвалась скамья рядом, слегка зашевелившись. – Мудрец ты, Кастор, всегда найдешь, что сказать в нужное время…
Амфитрион подошел к трибунам, поднялся по проходу наверх и сел чуть ниже Кастора, так, что голова Амфитриона оказалась на одном уровне с лежащим на скамье Автоликом.
– Радуюсь, – пробормотал он. – Вот уж радуюсь… с ума сойти можно от таких радостей.
– Это я во всем виноват, – неожиданно сообщил Автолик. – Ты понимаешь, Амфитрион, Алкид мне бросок стал показывать, но по-своему, я их так не учил… короче, гляжу – опасный бросок, для врага, не для палестры! Нельзя в тринадцать лет такое делать, даже пробовать нельзя – в голове дури полно, руки в полную силу не вошли, не удержат, как надо… о правилах я вообще не говорю! Высмеял я его, Алкида, при всех, заставил на мне показывать – здорово, подлец, показал, только это я один понял, что здорово, потому что рано еще Алкиду Автолика бросать не по правилам… Сбил я ему в конце колено, в пыли повалял, юнцы вокруг ржут, как кони, а он вырвался и удрал! Через полчаса возвращается как ни в чем не бывало, я его посохом за самовольство – а он в меня горсть щебня швырнул и опять убежал… Я ему вслед смотрю и думаю: зачем это Алкид в хитон переоделся? А потом уже Поликторова мамаша ближе к вечеру шум у палестры подняла: дескать, Амфитриады Лину-песнопевцу шею свернули, то ли вдвоем, то ли по очереди… Дура! Разоралась на весь город, стерва злоязыкая! А тебе, Амфитрион, сказал и повторю: я виноват! Забыл, что у парней самый жеребячий возраст, когда гордость хуже вина голову туманит…
Автолик грузно заворочался, с шумом втягивая ноздрями воздух – видать, трудно дались эти слова Автолику, сыну Гермеса, которого так ни разу и не смогли признать виновным хитроумнейшие судьи Эллады.
– А, может, замять это все – и дело с концом? – неуверенно предложил Кастор. – Пустим слух, что Лин…
– Сам себе шею сломал! – огрызнулся Автолик.
– Нет, ну почему же? Свидетелей убийства нет, слова мальчишек не в счет, родичей у Лина тоже нет, кроме Орфея – так Орфей сейчас не то в Пиерии, не то в Иолке… Пока до него дойдет, пока суд да дело – что скажем, то и запомнят! А мы скажем, что возгордился Лин, сын музы Каллиопы и Ойагра, возомнил о себе невесть что – и вызвал на музыкальное состязание самого Аполлона! Ну, а тот возьми да и убей нечестивца…
– Состязание-то хоть кто выиграл? – безразлично поинтересовался Амфитрион.
– Аполлон, понятное дело… Мусагет.
– А… ну, тогда все в порядке, раз Мусагет, – хмыкнул Автолик. – Вот если б Лин-покойник выиграл, а Аполлон его за это – по шее кифарой!
Кастор обиделся и замолчал.
– Ты не злись, Кастор, – Амфитрион примирительно похлопал лаконца по колену. – Это где-нибудь в Пиерии еще, может быть, поверят, а у нас в Беотии и, тем паче, в Фивах – вряд ли… И потом – каждому рот не заткнешь. Небось, уже не одна Поликторова мамаша вой подняла – весь город кипит…
– Об заклад бьются, – зло вставил Автолик, переворачиваясь на бок. – Сволочь болтливая!
– Об заклад?
– Ну, кто из мальчишек Лина убил: Алкид или Ификл?! Оба ж не признаются… вернее, признаются – но оба! Вспомнили фиванцы, Тартар их в душу («Душу их в Тартар!» – машинально поправил Кастор), что у Алкмены двойня! Одни за Алкида – кому ж, как не будущему герою, чужие шеи сворачивать?! Опять же Гера безумием покарала. А другие за Ификла – дескать, в роду у парня все такие, да и не сын он… ну, этого… то есть сын, но не…
– Не сын Зевса, – помог Кастор. – Я вот тоже не сын, в отличие от брата моего, Полидевка. Ты, Амфитрион, не обижайся – мне можно такое говорить. На собственной шкуре знаю.
– Я и не обижаюсь, – слабо улыбнулся Амфитрион. – Ты даже не представляешь, Кастор Диоскур, до чего я не обижаюсь…
Покрывало Нюкты-Ночи слегка полиняло, тысячеглазый Аргус стал все чаще жмуриться, и очертания внутренних построек палестры отчетливей проступили из темноты, неохотно перестающей быть темнотой. Зябкий ветерок лихо пронесся по беговым дорожкам, мимоходом зацепив крылом троих мужчин на трибунах, и умчался, обиженный таким безразличным к себе отношением.
– Кто-то идет, – вдруг сказал Кастор. – Слышите?
Из-за гимнасия показалась чья-то фигура, плохо различимая на таком расстоянии, но Амфитрион еще за миг до ее появления каким-то внутренним чутьем понял – это Алкмена. Сердце споткнулось, как подвернувший ногу атлет, потом захромало дальше, и Амфитрион безучастно смотрел, как жена его огибает гимнасий и сворачивает к западным трибунам.
Еле слышно позванивая ножными браслетами, шла Алкмена мимо трибун, и вернувшийся гуляка-ветер игриво дергал ее за край нарядного полосатого гиматия, схваченного на плечах шестью серебряными булавками.
Все это Амфитрион частью видел, а частью просто знал – потому что именно так одевалась Алкмена по большим праздникам; и шесть серебряных булавок шестью молниями полоснули его по глазам, сухим песком рассыпавшись под веками.
– Вот вы где, – невыразительно произнесла Алкмена, останавливаясь у первого ряда и не поднимая головы; а мужчины сверху глядели на нее, и любые слова застревали у них в горле, вырываясь только хриплым дыханием.
– Вот вы где… а я так и думала. Все спят, и мальчики спят… я к ним зашла, а они покрывала сбросили, раскинулись, мокрые оба, и лица сердитые-сердитые… Вы не поверите – впервые не смогла их различить. Одинаковые оба… я их укрыть еще хотела…
Она была невыразимо хороша в этот миг, когда предрассветный сумрак сглаживал своей щадящей кистью все неумолимые приметы возраста, высвечивая лишь белое пятно лица с бездонными глубинами глаз; и чернокосая Лисса-Безумие кончиками пальцев коснулась Алкмены, отрицательно покачала головой и отступила на шаг от последней женщины Громовержца.