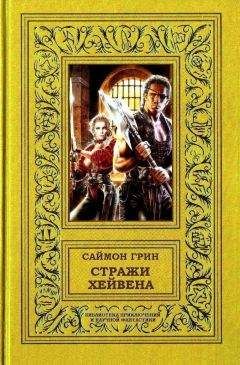Тогда я поняла цену, заплаченную любимым за мою прихоть. Я поднесла к цветку руки, но едва пальцы коснулись лепестков, они рассыпались в горстку праха, оставив лишь приторный запах. Прикосновение живой руки губительно для цветка из страны смерти. И, как мне предстояло узнать, живым тоже приходится платить свою цену.
Можете представить охвативший меня ужас. Задыхаясь, я кричала, звала его по имени, но на крик прибежали только мои родители. Они пытались успокоить меня, говорили, что мне приснился кошмар, но я не унималась. Мечась по комнате, я расколотила зеркала и пыталась выброситься в окно, тогда они привязали меня к постели обрывками простыней и обмыли лицо водой, как будто я бредила. Может, так и было. Я почти не помню следующие несколько недель.
Вспоминаю только, как очнулась, внешне спокойнее, но с той же болью внутри, точно зная, что мне делать. Услышав мой голос, слабый, но снова разумный, родители развязали меня, принесли бульон и сладкий чай и оставили отдыхать. Как только они вышли, я выдернула из еще висевшей на стене рамы осколок зеркала и перерезала себе горло. Хотя рана был глубокой, из нее не вытекло ни капли крови. Я рассекла запястья, но и там остались одни пустые разрезы. И ужас из-за того, что не могу умереть, был куда сильнее страха самоубийства.
Затем я покинула свой дом и город, пройдя мимо дома, где жил любимый, мимо оставшихся от него трав и орхидей. Вышла в поля за городом, оттуда на холмы, где гуляет неугомонный ветер, а через холмы в пустыню, и в этих бесплодных пустошах скитаюсь уже много лет в поисках входа в долины смерти. Я вечно хочу пить и вечно голодна. Я не могу умереть.
Она смолкла, устремив взгляд в темные пески. Больше она не плакала. И Пико, хоть рассказ тронул его больше, чем все прочие услышанные им истории, был слишком потрясен, чтобы дать волю слезам. Он смотрел на нее и легонько гладил ее руку, ту самую, что на миг прикоснулась к лепестку цветка из страны смерти, и она чуть шевельнулась в ответ.
- Я не в силах тебе помочь, - сказал он. - Я не знаю, где порог иссушенных земель.
- Нет, - покачала она головой. - Ты не можешь мне этого открыть, да и вряд ли есть такое место, где можно перейти из одного мира в другой и вернуться, но без надежды у меня не будет ничего. Свою любовь к нему я несу впереди, как факел, чтобы освещать мой путь во тьме. Но, господин, ты помог мне, подал воды из источника и выслушал мой рассказ. Этой ночью жажда не будет мучить меня, и одиночество гнетет меня меньше.
Она поднялась.
- Ты уходишь?
Она грустно улыбнулась:
- Мир велик, а я пересекла лишь малую его часть. Мне нужно продолжить поиски. Я не успокоюсь, пока не отыщу врата смерти, где ожидает мой любимый. Желаю тебе удачи в твоем поиске, юный поэт, но теперь я оставлю тебя. Прощай.
Он поднял руку, не в силах говорить, провожая взглядом ее удаляющуюся в пустыню фигуру, потом встал, взял рюкзак и зашагал в прямо противоположную сторону. И хотя с каждым шагом расстояние между ними росло, они шли одним путем, ведь нет направлений, нет четвертей на лимбе компаса, что указывают на тропы, ведущие к любви.
Он вступил в страну жажды. Солнце палило немилосердно, обрушивая лавины жара. Полуденные часы он переждал, спрятав голову и плечи в клочок тени от накинутого на рюкзак одеяла, края которого присыпал песком. Было слишком жарко для сна, но мозг его осаждали видения, и он бормотал, чтобы отогнать их. Они ушли. Он встал, отпил немного воды и двинулся в надвигающуюся ночь.
Запас воды удалось растянуть на два дня, расходуя ее по капле. Потом воды не осталось. Наутро третьего дня, под бездушным оком солнца, он запрокинул флягу над раскрытым ртом. Повисла одна капля. Упала. Он не почувствовал вкуса. Закупорив флягу, он спрятал ее в рюкзак и продолжил путь.
Тянулись дни. Два, три. А может быть, только один. День и ночь сливались в вечность. Время сжалось в единственное слово: вода. Он не мог повернуть - тогда он погибнет прежде, чем доберется до источника. Слишком далеко он ушел. Он больше не понимал, зачем продолжает идти. Зачем, проснувшись на рассвете, встает, поднимает рюкзак и бредет дальше. Жажда стерла все мысли. Чего бы не отдал он теперь за полную чашку воды? Что толку от грез, стихов и историй в пустыне?
Он рухнул на колени, поднялся, снова упал. Снял рюкзак и вытряхнул содержимое на песок. Смена одежды, жестяной чайник, свечи, подстилка, бечевка. Его синяя бархатная куртка. Он не стал подбирать их. Положил назад только книги из города в горах, свою тетрадь, ручку и фляжку. И снова пошел.
Губы распухли и потрескались, и когда он притронулся к ним, пальцы покраснели. Язык как нога, которую запихнули ему в рот, веки точно пемза. Раз он очнулся ничком на песке и не мог вспомнить, как упал. Небо побелело, как взбитое яйцо. Тогда он бросил одеяло, книги и рюкзак, и, сжимая тетрадку, с флягой на поясе, потащился вперед.
Потом он уже полз, цепляясь за песок, волоча непослушное тело. Небо завертелось в огромную воронку, горизонт изогнулся вверх, как будто земля на глазах распадалась и втягивалась в раскаленное жерло над ней. Фляга, затруднявшая его движение, полетела в сторону. Много позже с неохотой, для которой он больше не мог найти причин, он выбросил тетрадь. Вытянул руку. Подтянул ногу. Уткнулся лицом в песок. Вытянул руку. Подтянул ногу. И солнце, сжалившись, оглушило его своим молотом.
Глава 9
УТРЕННИЙ ГОРОД
Трепещущая тень. Слово, повторенное мысленно десять тысяч раз, наконец касается его губ. Попытавшись открыть глаза, он видит только расплавленное золото. Шум, будто костер, грохочущий в ушах, бурей налетает в лицо. Песок раздается в стороны, и он летит в вибрирующий колодец. Вода на губах и треплющий волосы ветер.
Он приходит в себя в серой комнате, в прохладной тени свода, без одежды, и мир облегает его тело, словно толща воды. Подле соломенного тюфяка стоит кувшин, он подносит его к губам и пьет, затем оглядывается. Комната из серого камня с огромным арочным окном, изогнутым проходом в неведомое, будто невидящий глаз, неподвижный пруд, мертвый сон.
От брошенной в бездну пригоршни золотой пыли сердце в один миг взлетает птицей. Стряхнув усталость, он поднимается и подходит к окну, садится в его изгиб и смотрит, как взмывают в рассветное небо крылатые люди, парят над обрушенными башнями и разбитыми статуями, встречая солнце.
Разве прежде случалось печальному поэту достигать цели? Вся жизнь прошла в томлении, и вот путь близок наконец к завершению. Путешествие его не закончилось, но он вступил в новое пространство и сидит на пороге начала. Навернувшиеся на глаза слезы делают силуэты, на которые он смотрит, расплывчатыми. Он отвык от блаженства смотреть на крылатых, и в лопатках снова отдается знакомая боль отторгнутого при рождении.