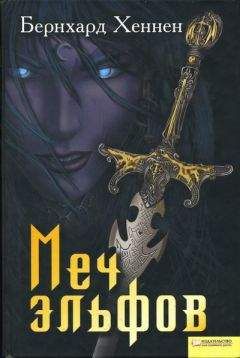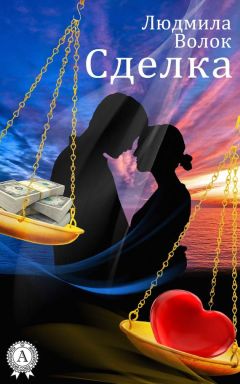Альварез похлопал высокого мальчика по плечу.
— Будь мужественен. Все будет в порядке. — Затем он поднялся. — Люк, можешь пройти со мной? Здесь, думаю, ты больше не нужен.
Капитан двинулся вниз к берегу. «Ловец ветров» бросил якорь в узкой скалистой бухточке. На пляже растянули два больших палубных тента. Горело несколько костров, на них жарили диких коз, которых поймала охотничья группа. Кроме охранника, корабельного плотника и его помощника, на борту «Ловца ветров» не осталось никого. Ущерб, нанесенный взорвавшимся орудием, был устранен. С палубы соскоблили пятна крови. Над водой разносился стук молотков, визжали пилы.
Внезапно Альварез остановился.
— Ненавижу, когда жизнь моих людей находится в чьих-то чужих руках! Этого не должно было случиться! — Произнося эти слова, он смотрел на свою галеасу.
Альварез был статным мужчиной. Несмотря на жару, на нем были широкие шаровары и высокие, до колен сапоги. Белая льняная рубаха отделана дорогим кружевом. На бедрах — широкий красный пояс с золотой бахромой — знак капитанства. Нож и рукояти обоих пистолетов, видневшиеся из складок ткани, придавали ему лихой вид. Серебряная серьга, закрученные усы и длинные волнистые волосы усиливали впечатление. Нет, он определенно не выглядит сведущим в медицине, снова подумал Люк. Скорее он похож на пирата или контрабандиста.
— Часто бывает, что в пушке скрывается невидимый глазу недостаток. Может быть, пузырь воздуха. Иногда сплав оказывается не должного качества… Поэтому орудия испытывают. Это задача этих проходимцев из Змеиной лощины. Я бы проломил этому литейщику череп! Я бы… — вдруг обратился он к Люку. — Ты когда-нибудь видел, как акула пожирает человека? Мне хотелось бы, чтобы он был здесь, этот литейщик, который ответственен за «Праведный гнев». Мне очень хотелось бы дать выход своему… совершенно неправедному гневу! — Альварез дрожал от ярости.
Люк мысленно спросил себя, неужели капитан действительно бросил бы того человека на съедение акулам.
— Ты был бы строгим судьей, Люк? Что бы ты сделал, если бы жизнь человека, из-за которого погибли твои братья и сестры, была в твоих руках? Ты был бы снисходительным?
Люк подумал о двоих мертвецах, лежавших в свинцовых гробах в трюме корабля, об Анне-Марии, потерявшей руку. Это было печально. Но если убить другого человека, их не оживишь.
— Не знаю, — сказал он наконец, не в силах поднять глаза на капитана.
— Ты слишком мягок, — покачал тот головой. — Я вижу, у тебя доброе сердце. Но если ты предводитель, сострадание и добродушие иногда приходится прятать очень глубоко. Ты должен уметь делать вещи, которые ранят твое собственное сердце. Иначе ты не сможешь руководить. Я наблюдал за тобой, ты знаешь это.
Люк почувствовал, что сердце его забилось быстрее.
— Да.
— Ты хорошо заботился о раненых. Мне еще не доводилось видеть тринадцатилетнего мальчика, который был бы таким умелым. Ты крайне… необычен.
Люк почувствовал, как внутри у него все судорожно сжалось. Что Альварез хотел этим сказать? Неужели капитан видит его насквозь, как Леон, когда ему пришлось взять в рот его глаз?
— Тебе нужно съесть что-нибудь, много пить и отдохнуть. Мне кажется, ты очень вымотался. Завтра раненым снова понадобится твоя сила, Люк. На сегодня я освобождаю тебя от обязанностей. — Он улыбнулся. — А теперь, чтобы мы друг друга правильно поняли, послушник, это был приказ твоего капитана! — Он приветливо улыбнулся. — Иди, иди…
Люк послушался. Он испытывал облегчение от того, что наконец-то может побыть один. Но на сердце было тяжело. Он обманулся в Альварезе. Капитан был на его стороне. Казалось, он ни капли не сомневался в нем. Люк молча взмолился Тьюреду, чтобы капитан и остальные, которые в него верят и доверяют ему, не разочаровались. Товарищи по звену, Мишель, Альварез, да даже Друстан — все они стали для него большой семьей. Он не хотел их потерять. Ни за что на свете!
Люк принес воды, взял немного хлеба и сыра. По широкой дуге обошел палубный тент, под которым лежали раненые. Избегал он и товарищей. Он был действительно вымотан до предела. Альварез говорил так, словно понимал его состояние. Но откуда ему знать?
Серые скалы были теплыми от солнца. Повсюду было множество покинутых птичьих гнезд. Яичные скорлупы весеннего выводка похрустывали под подошвами сапог, когда Люк перебирался с уступа на уступ. Сверкающие перья говорили о том, что гнездились здесь не чайки.
Когда он взобрался настолько высоко, что голоса с пляжа уже не доносились до него и только изредка слышались трели боцманских трубок, мальчик опустился на камни среди покинутых гнезд. Он едва сумел проглотить пару кусков, а вот жажда мучила очень сильно, поэтому он жадно пил большими глотками.
Потом он растянулся на камнях и стал вбирать их тепло своим усталым телом. В шуме прибоя было что-то успокаивающее, усыпляющее. Альварез был прав: было хорошо уйти от всех обязанностей. По крайней мере, ненадолго.
Люк блаженствовал. В полудреме он наслаждался теплым летним днем и предавался мечтам. Мальчик представлял себе, будто стал рыцарем. Героем, имя которого у всех на устах. Но все подвиги он совершал исключительно ради Гисхильды. Он будет стоять под градом пуль противника, спасать ее от троллей, скакать сквозь непогоду, чтобы только быть рядом с ней. Ему даже казалось, что он чувствует на лице град. Вспомнил, как она согревала его, когда он нес свое наказание. Этого он не забудет никогда. За одно это он будет любить ее всегда.
Послышался шорох, тихий смех… В мечтах он часто слышал, как она смеется. Иногда громко, прыская, так, как смеялась на уроках фехтования, когда он отваживался на слишком отчаянный выпад, а она легко наносила ему удар, и он чувствовал себя неловким, как пьяный теленок. Он любил этот смех, потому что смех был честным, и Люк никогда не обижался. Любил он также и ее тихий и сдавленный смех. Тот смех, который всегда раздавался не вовремя, например во время уроков навигации, которые каждый день давал им капитан Альварез. Смех, который она с радостью подавила бы, и тем не менее не могла с ним справиться. Любил он и ее шаловливый, свободный, переливчатый смех, когда они оба ускользали на часок и были одни. Настолько одни, насколько это возможно на галеасе, где пара чужих ушей находилась не далее, чем в трех шагах.
— Ты не спишь, ведь так?
Несколько секунд Люк не мог понять, откуда голос — из его грез или же из реального мира.
— Спящие лоб не морщат. Я знаю, что ты сейчас не спишь.
Заморгав, он открыл глаза. Небо праздновало вечер тысячами красных и золотых оттенков. Шум прибоя превратился в тихий шепот. Люк потянулся. Потом огляделся по сторонам в поисках говорившего.
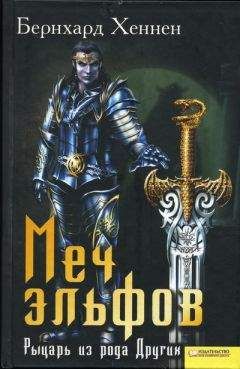
![Бернхард Хеннен - Королева эльфов. Зловещее пророчество [Elfenkönigin ru]](https://cdn.my-library.info/books/51257/51257.jpg)