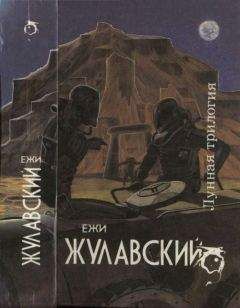— Здравствуй, здравствуй… Что-то давно тебя не слышно. Как у тебя дела?
— У меня? Да у меня-то ничего… Неплохо. Звоню я, собственно, чтобы узнать, как дела у вас.
— Дела как сажа бела, Настя… Бабушка умерла — за первым инфарктом ударил второй. У Виктора тоже неладно, из больниц не вылезает, на работу не устроился.
— Сочувствую вам, — вздыхаю я. И задаю волнующий вопрос: — А от Ники весточки нет?
— Не пишет, — отвечает Надежда Анатольевна. — Уж не знаю, может, случилось что…
— Знаете, что? Давайте, я к вам зайду. Вы не против?
Я бегу из своей жуткой, тоскливой и пустой квартиры, чтобы провести вечер с Надеждой Анатольевной. Она ещё больше постарела, к морщинкам прибавилась седина, но держится стоически. Мне до слёз хочется назвать эту маленькую, тихую женщину мамой, но я не решаюсь. Ухожу я только в одиннадцатом часу, взяв адрес колонии, где отбывает срок Ника.
Дома я до половины первого пишу письмо, а потом ложусь спать. Пульсирующая тишина безлунной ночи наполняет мои уши, и в ней громко стучит моё сердце. Я долго не могу заснуть, мысли тошнотворным калейдоскопом вертятся в голове, не дают сомкнуть глаз, темнота наползает со всех сторон, опутывая меня чёрными щупальцами, как огромный осьминог. Сжавшись под одеялом в комочек, я слушаю пульс тишины, и моя комната кажется мне склепом: потолок, как могильная плита, давит сверху, из углов веет холодом, а снаружи надо мной склоняется огромная скорбящая ночь. Мои усталые веки всё-таки смыкаются, и я проваливаюсь в чёрную невесомость.
Просыпаюсь я оттого, что слышу тихий, печальный и жалобный голос:
— Настя… Мне очень плохо. Купи мне пива…
Я выныриваю из сна с подвешенным на ниточке трепыхающимся сердцем и вглядываюсь в звенящий сумрак, но никого не вижу. За окном светает, слышатся предрассветные птичьи рулады. Всё ещё ощущая кожей морозец, я ёжусь под одеялом и долго боюсь шевельнуться, но уже не слышу никаких голосов.
Мне страшно, и я включаю свет. Был ли это голос отца или только какой-то похожий на него голос? Я уже не могу точно сказать, но он вызвал в моём сердце скорбное и тоскливое замирание. Бросив взгляд на стол, я обнаруживаю, что моё письмо к Нике исчезло, а вместо него лежит грязный, сморщенный клочок бумаги с несколькими строками, написанными до боли знакомым почерком…
«Доченька, мне очень плохо. Он забрал меня и мучает. Я здесь света белого не вижу. Молитвы сюда не доходят, здесь очень страшное место. Здесь ещё много людей, которых он забрал. Мама тоже здесь, он и её забрал — уже давно. Мы с ней тебя просим, помоги! Сделай что-нибудь, мы знаем, ты можешь. Только на тебя и надеемся. Другие тоже на тебя уповают. Помоги, вызволи нас, здесь страшно!»
Подписи нет — для неё на клочке просто не осталось места, да и последняя строчка еле влезла, но почерк несомненно принадлежит отцу. Чернила какие-то странные, бурые, и я с ужасом понимаю, что это не чернила, а самая настоящая кровь. Приглядевшись к бумаге, я понимаю, что это и не бумага вовсе, а клок высушенной человеческой кожи…
Как сюда попало это ужасное послание? Как отцу (если писал и вправду он) удалось его переслать из того страшного места, куда не доходят даже молитвы? Чья это кровь и чья кожа? Все эти вопросы сводят меня с ума до самого утра, но самое страшное — неужели маму действительно забрал Якушев? Если так, то я должна что-то предпринять. А другие, которые тоже уповают на меня? Сколько там ещё народу и как мне всем им помочь? Я не могу обмануть их надежд!
На работу я прихожу с красными глазами. Галя замечает, что я сегодня как будто не с той ноги встала; я и вправду не могу думать ни о чём, кроме этого письма с того света. А потом мне вдруг приходит в голову: а подлинное ли оно? Может, это проделки Якушева?
Когда я прихожу домой, записки уже нигде нет, а письмо Нике лежит там, где я его оставила. Следующей ночью кошмар повторяется. Под утро я слышу голос, похожий на голос отца, который жалобно просит пива, а ещё меня кто-то гладит холодной рукой по волосам. Никаких записок на этот раз не появляется, но мне и без этого страшно. Как, как я могу помочь им? — терзаюсь я, сидя в постели и грызя ногти.
На следующий вечер после работы меня ждёт Костя.
— Настя, вам срочно надо куда-нибудь сходить, развеяться. Я за вас беспокоюсь.
Мне страшно возвращаться домой, и я еду с ним. Мы сидим в уютном кафе, едим блинчики с джемом и пиццу, я выпиваю стакан пива и даже смеюсь: Костя рассказывает анекдоты и забавные истории из жизни своих знакомых. Я поражаюсь, откуда он знает столько смешных случаев: такое впечатление, что все его друзья и знакомые по нескольку раз в день попадают в переплёт. После кафе мы едем к нему домой; должна сказать, что эту глупость я делаю не ради того, чтобы посмотреть его отлично отремонтированную двухкомнатную квартиру, а по той же самой причине, по которой я вообще с ним пошла в этот вечер: мне страшно оставаться одной дома ночью.
Дома у Кости есть вино и фрукты, а также сладкое и чай: похоже, сегодняшний вечер — не экспромт, а подготовленная акция. Сначала он с невинным видом предлагает мне чаю с пирожными, а я про себя думаю: наверняка у него запланировано сегодня укладывание меня в постель. От чая и пирожных, кстати, весьма вкусных, я не отказываюсь и охотно выпиваю бокал вина, а Костя включает музыку и зажигает свечи. Да, всё это очень похоже на романтическое свидание, логическим завершением которого, несомненно, должен быть секс, но сегодня я к этому никак не расположена, да и… мало ли у меня причин!
До поцелуя дело всё-таки доходит. Мы танцуем при зажжённых свечах, и губы Кости тепло накрывают мои. Несколько секунд я нахожусь в их ласковом щекочущем плену, а потом мягко, но решительно отстраняюсь.
— Костя… Ты прости меня, но я, наверно, разочарую тебя сегодня. Ты убил на меня целый вечер впустую.
Он тихонько стонет, уткнувшись мне в плечо.
— Ммм… Почему?
Я говорю:
— Ты очень хороший и нравишься мне, поэтому я не стану тебе врать, а скажу правду. Она состоит в том, что я люблю другого человека. Ты славный и милый, ты симпатичен мне, но у меня нет к тебе таких чувств, при которых… Словом, без любви я не отдаюсь. Вот так. Прости.
Костя стойко принимает мой отказ. Мило улыбнувшись, он вздыхает:
— Я понимаю. Всё нормально.
— Давай ещё потанцуем, — предлагаю я. — Музыка классная.
Мы просто танцуем, и я рада, что Костя понимает, хотя для него, наверно, с моим отказом исчез и весь смысл сегодняшнего вечера. Однако он не проявляет признаков досады на меня за то, что я его продинамила, он по-прежнему мил и обаятелен, и мне становится грустно. С печалью в сердце я понимаю, что неизбежно упущу его, но ничего поделать с этим нельзя. С другой стороны, я осознаю, что хорошие парни — действительно хорошие — на дороге не валяются, но как быть, если все мои помыслы устремлены к одной лишь Альбине, если я тоскую по ней, страдаю без неё, боюсь за неё и люблю со всей силой, на которую только способна человеческая душа? Дурацкая, неуместная ирония судьбы! Если бы мне встретиться с Костей хотя бы за день до того, как я познакомилась с Альбиной, неизвестно, как бы всё сложилось, но все эти «бы» ни к чему — от них лишь больнее. Всё сложилось так, как должно было.