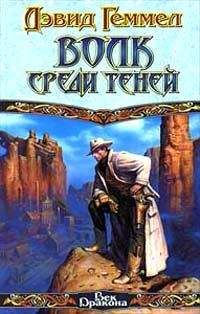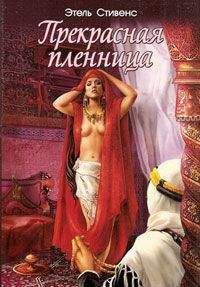— Мне отмщение, говорит Господь.
— Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, — возразил Шэнноу. — Не пытайтесь переубедить меня. Он возжелал навлечь смерть и погибель на женщину, которую я любил. Он язвил меня этим. Я не могу остановить его, Руфь, нас разделяет целое войско. Но если Господь со мной, я избавлю от него мир.
— Кто вы такой, чтобы судить, когда у человека следует отнять жизнь?
— А кто такая вы, чтобы судить, когда ее не следует отнимать? Никакого спора не возникает, когда бешеная собака убивает ребенка, вы просто убиваете собаку. Но когда человек творит чернейшие грехи, почему мы должны морализировать и оправдываться? Мне это до смерти надоело, Руфь. Я счет потерял городкам и поселкам, которые взывали ко мне избавить их от разбойников. А когда я выполняю их просьбу, что мне приходится слышать? «Вам обязательно было их убивать, мистер Шэнноу?» «Неужели была необходимость в подобной беспощадности, мистер Шэнноу?» Это вопрос равновесия, Руфь. Если человек выбросит свои припасы в огонь, кто его пожалеет, когда он будет бегать и вопить: «Я умираю с голоду!» То же и с разбойником. Он живет насилием и смертями, воровством и грабежом. И я не даю им пощады. Я не виню вас, женщину, вы отстаиваете своего мужа. Но я не слушаю.
— Оставьте ваш снисходительный тон, мистер Шэнноу, — сказала Руфь без малейшего гнева. — Ваша аргументация очень упрощена, но весома. Однако я не отстаиваю моего мужа. Я не видела его два с половиной столетия, он не знает, что я жива, а узнал бы, так остался бы совершенно равнодушен. Меня куда больше заботите вы. Я не пророчица, но тем не менее ощущаю приближение какой‑то страшной катастрофы и чувствую, что вам не следует упорствовать в вашем плане.
Шэнноу прислонился спиной к камню.
— Если я не сошел с ума, Руфь, и если это был не просто сон, я могу рассказать вам, какая опасность нас подстерегает. Мир вот‑вот вновь опрокинется.
Он рассказал, как ему привиделся Пендаррик и про неотвратимую опасность, заложенную в Кровь‑Камнях. Она слушала молча с неподвижным лицом, а когда он договорил, отвела взгляд и несколько минут молчала.
— Я не всемогуща, мистер Шэнноу, — сказала она наконец. — Но что‑то тут не сходится. Подобная катастрофа соответствует моему страху, но Кровь‑Камни исчадий Ада? Мелкие фрагменты ничтожной силы! Чтобы разорвать ткань вселенной, понадобилась бы гора Сипстрасси и колоссальное зло.
— Не подгоняйте факты под ваши теории, Руфь. Рассмотрите их беспристрастно. Пендаррик говорит, что кровь и смерть высвободили силу Камней. Аваддон послал свои войска на юг. Какого еще следует искать зла?
— Не знаю. — Она пожала плечами. — Знаю только, что чувствую себя очень старой. Я вышла замуж за восемнадцать лет до падения и уже была не юной девушкой. У меня были мечты, такие мечты! А Лоренс тогда не носил в себе зла. Он интересовался оккультизмом, но был остроумен, любезен, и его приглашали в самое избранное общество. У нас была дочь, Сара. Ах, Шэнноу, какой это был прелестный ребенок… — Она погрузилась в молчание, которого Шэнноу не стал нарушать. — Пяти лет она погибла в результате несчастного случая, и это сломило Лоренса ‑так глубоко ранило, что никто не сумел увидеть рубца. Я просто выплакала свою боль и научилась жить с ней. А он совсем ушел в оккультизм и незадолго до Падения открыл для себя сатанизм. Когда земля опрокинулась, мы уцелели в числе еще трехсот человек, но вскоре люди начали умирать в том море грязи, в которую превратился мир. И Лоренс объединил выживших. Он был великолепен: харизматичен, чуток, силен и заботлив. Три года мы были почти счастливы, и тут начались сны — видения Сатаны, который говорил с ним, давал обещания. Он оставил нас на некоторое время, чтобы побыть одному в пустыне. Вернулся же он с Камнем Даниила, и началась эпоха исчадий Ада. Я оставалась с ним еще восемь лет, но потом, когда Лоренс однажды отправился в очередной кровавый налет, я ушла из селения с еще восемью женщинами. Мы ни разу не оглянулись. Время от времени до меня доходили слухи о новой нации и безумце, который назвал себя Аваддоном. Но подлинная беда произошла лет восемь‑десять назад, когда Аваддон встретил человека, который открыл перед ним путь к завоеваниям. Еще один, уцелевший после Падения, и хотя в молодости у него была другая профессия, он всегда, увлекался оружием — пистолетами и ружьями. Он и Аваддон вместе воссоздали способы изготовления огнестрельного оружия.
— Что произошло с оружейником?
— Еще шестьдесят лет назад он соперничал с Аваддоном во зле. Но он раскаялся, мистер Шэнноу, и бежал от гнусностей, возникновению которых способствовал. Он стал Каритасом и попытался построить новую жизнь среди мирных людей.
— И вы считаете, что я должен пощадить Аваддона на случай, если и он вдруг раскается? Ну, нет!
— Почему вы смеетесь? Вы полагаете, что Бог не может изменить сердце человека? Вы считаете его могущество столь ограниченным?
— Я никогда не подвергаю сомнению ни его могущество, ни его деяния, — сказал Шэнноу. — Не беру на себя смелость. Мне все равно, что он уничтожил всех мужчин, женщин и детей в Ханаане или допустил Армагеддон. Это его мир, и он волен поступать, как ему угодно, и не мне критиковать его. Но я не представляю Аваддона на дороге в Дамаск, Руфь.
— Как насчет Даниила Кейда?
— Что именно?
— Вы можете представить его на дороге в Дамаск?
— Говорите прямо, Руфь, сейчас не время для игры в загадки.
— Атаман разбойников сейчас выступает с людьми юга против исчадий. Он говорит, что его ведет Бог, и он творит чудеса. Люди стекаются к нему. Что вы скажете на это?
— Вы не могли, госпожа, сказать мне ничего, что обрадовало бы меня больше. Но ведь вы же не знаете, верно? Даниил Кейд — мой старший брат. И поверьте мне, он не станет проповедовать всепрощение, а будет поражать исчадий — перебьет им голени и бедра, как говорит Святое Писание. Клянусь Небесами, Руфь, убить его им будет потруднее, чем меня!
— Очевидно, все мои слова пропадают впустую, ‑сказала Руфь грустно. — Но ведь на протяжении истории любовь всегда была на втором месте. Мы еще поговорим, мистер Шэнноу.
Руфь отвернулась от него…
И исчезла.
За время весенней кампании Даниил Кейд испытал не одно потрясение, и первым было открытие, что он стал особым человеком. Люди теперь обращались к нему с нервирующей почтительностью, даже те, кого он знал много лет. Когда он подходил к лагерному костру, непристойные байки тут же обрывались, и рассказчики смущенно отводили глаза. Нечаянно выругавшись в его присутствии, виновник тут же просил извинения. Вначале это его забавляло, да он и не сомневался, что продлится это недолго — от силы неделю. Но ничего подобного!