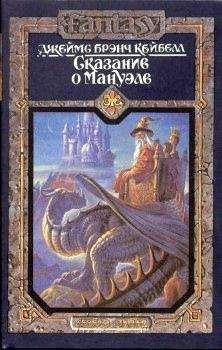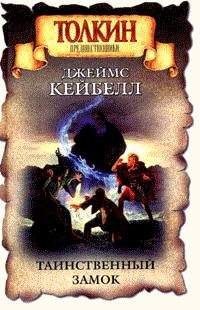– А разве успех вас не удовлетворяет?
– Но, – медленно спросил Мануэль точно так же, как он когда-то в своей потерянной молодости спросил Горвендила, – что такое успех? Мне говорят, что я во всем чудесно преуспел, поднявшись с самого низа до таких высот, однако, слыша это, я порой диву даюсь, поскольку знаю, что на уютной вершине графа Мануэля кривляется существо с высохшим сердцем, человек духовно не такой богатый, как выходивший в поле с Мельниковыми свиньями.
– Да, граф Мануэль, вы пришли к приемлемому соглашению с этим миром, уступив его глупости. Так довольствуйтесь покоем, ибо это единственный путь, открытый любому, кто не совсем правильно увидел и оценил пределы этого мира. На худой конец, вы обрели все свои желания и представляете собой весьма знаменитую фигуру, не говоря уж о завидном положении.
– Но я голодаю, Гинцельманн, я высыхаю, становясь каменным, и эта завидная жизнь превращает меня в почитаемого дураками самодовольного идола, а одобрение дураков превращает мое сердце и мозг в каменное сердце и мозг идола. И я оглядываюсь назад, на свои прежние бездыханные устремления, и печально спрашиваю: «Неужели ради этого?»
– Да, – сказал Гинцельманн и пожал плечами, так и не расставаясь со своей грустной улыбкой. – Да-да, все это – лишь еще один способ доказать, что Беда сдержала свое слово. Но ни одному человеку не избавиться от Кручины, граф Мануэль, разве что дорогой ценой.
Какое-то время они молчали. Граф Мануэль гладил соломенную головку маленькой Мелиценты. Гинцельманн вертел в руке крестик, висевший у него на шее и казавшийся сплетенным из струн. Когда Гинцельманн тряхнул им, крест зазвенел, как колокольчик.
– Но тем не менее, – сказал Гинцельманн, – вы остаетесь здесь. Нет, определенно я вас не понимаю, граф Мануэль! Как пьяница идет назад к губительному бочонку, так и вы продолжаете возвращаться в свой прекрасный дом в Сторизенде и к непрестанному нашептыванию отца вашего отца, несмотря на то что вам нужно лишь остаться в низком дворце Сускинд с красными колоннами, чтобы навсегда избавиться от этого шепота и этого тоскливого насыщения человеческих желаний.
– Я, конечно же, вскоре обоснуюсь там постоянно, – сказал граф Мануэль, – но еще рано. Было бы не вполне честно по отношению к жене покинуть Сторизенд прямо сейчас, когда мы собираем урожай и когда все так или иначе уже в беспорядке…
– Я так понимаю, что вы по-прежнему выдумываете извинения, граф, чтобы отложить признание вассальной зависимости от моей сестры.
– Нет, это не так, совсем не так! В делах сейчас действительно беспорядок, и, кроме того, Гинцельманн, в конце следующей недели аист принесет нам последнюю девочку. Мы назовем ее Эттаррой, и мне бы, конечно, хотелось на нее взглянуть…
Гинцельманн по-прежнему грустно улыбался.
– В прошедший месяц вы не могли прийти к нам просто потому, что ваша жена тогда была изнурена стоянием на жаркой кухне и изготовлением варений и солений. Дон Мануэль, придете ли вы, когда девочка будет доставлена, а весь урожай засыпан в закрома?
– Но, Гинцельманн, в течение пары недель мы будем варить пиво, а я всегда более или менее за этим следил…
Гинцельманн, так же грустно улыбаясь, указал маленькой рукой в перчатке на Мелиценту.
– А как насчет другого вашего порабощения – этим ребенком?
– Несомненно, Гинцельманн, что потомство нуждается в отцовском присмотре, а она всего лишь ребенок. И, естественно, я последнее время думал об этом довольно серьезно…
Гинцельманн заговорил, тщательно подбирая слова:
– Она почти самая глупая и самая непривлекательная девочка, которую я когда-либо видел. А я, как вы должны помнить, кровный брат Каину и Сету.
Но дон Мануэль не рассердился.
– Будто я не знал, что в ребенке нет ничего замечательного! Нет, мой милый Гинцельманн, вы, служащий Сускинд, показали мне много странного и прелестного, но не более странного и прелестного, чем то, что я открыл сам. Ведь я – тот Мануэль, которого называют Спасителем Пуактесма, и мои деяния станут темой для менестрелей, чьи дедушки еще не родились. Я познал любовь, войну и всевозможные приключения. Но все вздохи и приглушенный смех вчерашнего дня, и все трубные звуки и крики, и все, что я видел на блистательных возвышениях великих мира сего, и все добро, которое я в свое время, возможно, сделал, и все зло, которое я определенно уничтожил, все это кажется тривиальным по сравнению с производством на свет этого взъерошенного потомства. Нет, разумеется, она менее развита, чем Эммерик и даже Доротея, и она, как ты говоришь, ничем не примечательный ребенок, хотя зачастую, могу тебя уверить, она творит изумительные вещи. Вот к примеру…
– Избавьте меня! – сказал Гинцельманн.
– Но это действительно было с ее стороны очень умно, – с разочарованием сделал оговорку дон Мануэль. – Однако я собирался сказать, что я, который громил язычников и перекидывался шутками с королями, а сейчас ставлю условия Святому Отцу, стал считать поступки этой дурно воспитанной, эгоистичной, некрасивой, маленькой чертовки более важными, чем свои. И пока я не могу решиться покинуть ее. Поэтому, мой друг Гинцельманн, думаю, пока я не приму на себя такое обязательство. Но после Рождества посмотрим.
– А я расскажу вам о двух причинах этих колебаний, граф Мануэль. Одна причина состоит в том, что вы – человек, а другая – в том, что у вас на голове седые волосы.
– Так, может быть, – безнадежно спросил огромный воин, – я, который не прожил еще и двадцати шести лет, уже миновал свой расцвет? И жизнь покидает меня?
– Вы должны помнить цену, которую заплатили, чтобы возвратить из рая госпожу Ниафер. Оценивая такие вещи не по календарю, а как есть на самом деле, вам сейчас около пятидесяти шести.
– Я об этом не сожалею, – решительно сказал Мануэль, – и ради Ниафер я готов стать стошестилетним. Но, определенно, тяжело думать о себе, как о старике, стоящем на пороге могилы.
– О, вы еще не так стары, граф Мануэль, но власть Сускинд сильнее власти ребенка. И, кроме того, есть способ свести власть ребенка на нет. Смерть просто слегка, одним коготком, процарапала морщины, отмечая тот факт, что вы вскоре будете принадлежать ей. Пока это все. И вот так же моя возвышенная сестра Сускинд властвует над вами, который когда-то следовал своим помыслам и своему желанию. Да-да, хотя сегодня вы отказываете Сускинд, завтра вы будете ее умолять, а потом, возможно, она вас накажет. В любом случае сейчас мне нужно идти, поскольку вы упрямы, а я в это время года, в сентябре, ношусь по свету, собирая причитающееся моей сестре, а ее должники весьма многочисленны.
И на этом мальчик, по-прежнему печально улыбаясь, соскользнул с третьего окна в серый сладкопахнущий полумрак, а маленькая Мелицента сказала: